Главная » Книги и сценарии » Многоликая эстрада. За кулисами кремлевских концертов
Многоликая эстрада. За кулисами кремлевских концертов
В своей книге автор рассказывает о забавных, а зачастую и острых ситуациях, которые возникали при организации кремлевских концертов, о конфликтах с чиновниками от культуры, в том числе и из высших эшелонов власти. Но прежде всего эта книга о мастерах эстрады и театра, о друзьях и коллегах.
Иоаким Шароев
Многоликая эстрада. За кулисами кремлевских концертов
Талантливому другу
Сергею Федоровичу Лисовскому —
посвящаю
Об учителе
Надо написать предисловие к книге моего учителя, но вот так сразу сделать это непросто: глаза разбегаются. Их у меня, как и положено, только два. А чтобы охватить все многообразие творчества И. Г. Шароева, надо иметь их много, иначе многое ускользнет от внимания. Сделать это трудно.
Я просто скажу, что мой учитель в своей жизни занимался многим: оперой и эстрадой, кино и массовыми театрализованными зрелищами...
Вместе с единомышленниками организовал Международный союз деятелей эстрадного искусства и стал его первым вице-президентом; написал десять книг, множество сценариев массовых представлений, фильмов, оперных либретто...
Он был режиссером в Большом театре, главным режиссером Московского театра эстрады, около шести лет проработал главным же режиссером Московского академического музыкального театра им. Станиславского и Немировича-Данченко...
Кроме того, четыре года руководил объединением музыкальных фильмов и концертных программ творческого объединения «Экран» на Центральном телевидении...
Он был художественным руководителем и главным режиссером культурной программы Олимпиады-80, организовывал многие декады и фестивали искусств народов нашей (увы! теперь уже не совсем так) страны. Успел поработать и за рубежом: ставил оперные спектакли в ФРГ и Югославии, большие концерты в Мадриде, Афинах, Хельсинки, Берлине, Белграде, Софии, Будапеште, Праге...
И вот уже тридцать лет под его неусыпным (и любящим) оком — созданная им кафедра эстрады в нашем ГИТИСе. (Теперь у него новое название — Российская академия театрального искусства). С 1992 года наиболее одаренные студенты получают здесь стипендию имени академика И. Г. Шароева.
Среди воспитанников кафедры — «звезды» нашей эстрады, ее сегодняшняя элита: Алла Пугачева, Евгений Петросян, Лайма Вайкуле, Клара Новикова, Ефим Шифрин и многие-многие другие (о некоторых из них написано в этой книге).
Под этим же любящим оком как режиссер «пророс» и я, хотя долго сопротивлялся, «закопавшись» в цирковые опилки.
Но и сам И. Г. Шароев тоже не раз попадал под «всевидящее око» всегда во всем разбирающегося и все знающего руководства страны. Достаточно вспомнить поставленный им во времена Хрущева в Кремлевском театре джазовый концерт, который был объявлен «идеологической диверсией», а режиссер-«диверсант» на полтора года был изгнан из Москвы вместе со своим «подрывным» талантом. В связи с этим вспоминается изречение великого клоуна Грока (который имел также и степень доктора философии): «Обожаю, когда меня ежедневно бьют по голове. Когда это прекращается, я получаю истинное наслаждение».
Не берусь судить, чего в жизни И. Г. Шароева было больше — битья по голове или радостных минут творческого удовлетворения. Но в любом случае ему есть что вспомнить и о чем написать — с грустью, с улыбкой, с иронией, иногда и с обидой.
За последние годы многое изменилось в нашей жизни. Немало сверстников И. Г. Шароева отошли от профессиональной деятельности, устав или разочаровавшись в ней. Но Мастер сохранил прежнюю энергию. Я думаю, что этой неиссякаемой энергией его зарядили с такой симпатией описываемые им герои данной книги — замечательные деятели нашего искусства, рядом с которыми он жил и работал.
В этом — его счастье, а наше везение: рассказы об этих людях в книге мы прочтем «из первых рук».
У меня же не хватает нужных слов на пространное предисловие к книге учителя. Поэтому я заканчиваю: бегу к нему доучиваться.
АНДРЕИ НИКОЛАЕВ,
народный артист России
ЗАТЯНУВШЕЕСЯ ПРЕДИСЛОВИЕ

Спасибо тебе, память
Память — причудливая вещь. Она может «забуксовать» на таком месте, которое, казалось бы, по всем законам должно запечатлеться навсегда. И в то же время вдруг выхватывает из далекого прошлого мелкие детали, которые — непонятно почему — прочно осели в ней.
И тогда внезапно темнота «оживает», и из тех — скрытых дымкой времени — годов приходят люди, уже давно ушедшие. Приходят такими, какими ты их видел и запомнил: их лица, голоса, смех, поступки, оставившие след в твоей душе. Для меня они — все равно живые, с их горящими глазами, с желаниями, с огорчениями. Для меня они — не умерли, не исчезли. Они всегда рядом, вокруг, надо мной. Стоит лишь позвать их — и они приходят, не зная ни дали годов, ни расстояний. Приходят и говорят со мной, смеются, печалятся... Как тогда — в первой своей жизни.
Что это — наваждение? Или антимир?
Наверное, это атмосфера, окутывающая каждого из нас, заряженная «чувственными аккумуляторами» многих людей и при соприкосновении с ними в воспоминаниях мгновенно разряжающаяся ответом их душ.
Все они были, прошли и... остались. Не только внутри — в душе, — но вокруг нас. Они — часть твоего мира, не только прошлого, но и сегодняшнего, и будущего.
Мне хочется написать только о том, что хорошо сохранилось в памяти. Или без ошибок расшифровать записи, сделанные тогда, в далекие теперь годы.
Мне хочется, чтобы люди, прошедшие через мою жизнь, не обижались на меня. И друзья, и недруги. И те, кто любил и берег меня, и те, кто упорно и методично сокращал мне жизнь.
Время все расставило по местам, многое объяснило.
И теперь я иногда жалею — что-то не так сложилось, не такими, как хотелось, были отношения с некоторыми моими современниками. Но фантазировать и выдумывать я не буду: ни к чему это. Ведь так много случилось в жизни, так о многом можно рассказать.
Жалею я только, что в стремительной молодости по беспечности не все записывал. Поэтому что-то забылось, стерлось... Жалею, что так поздно постиг удивительную мысль Марины Цветаевой: «Через пятьдесят лет все мы будем в земле. Будут новые лица под вечным небом. И мне хочется крикнуть всем еще живым: Пишите! Пишите больше! Закрепляйте каждое мгновение, каждый жест, каждый вздох!.. Записывайте точнее! Нет ничего неважного!»
Память, память... Ее характер неожидан.
Иногда мелькнет в ее глубинах лицо, вглядишься в него, узнаешь, остановишь и — вспомнишь.
А иногда возникнет в памяти чей-то голос — и ты слышишь, как он отчетливо произносит смешную фразу (смешное почему-то запоминается лучше). Повторяешь эту фразу, интонацию — и появляется лицо говорившего, оживает. Искрятся его глаза, от них исходит тепло — и вот ты уже вступаешь в беседу с пришедшим, и вести ее легко и радостно...
Наконец-то! Слово найдено! Именно радость пришла ко мне, когда я писал эту книгу. Радость общения с дорогими для меня людьми — и ушедшими, и живыми.
Радостно, что я снова могу говорить с ними, шутить, вспоминая то, что было десять, тридцать лет назад.
Спасибо тебе, память. Ты честно потрудилась и очень помогла мне вернуть многое из того, что прошло и исчезло.
Прошло потому, что все — в движении. Все движется — мысли, поступки, смех, горечь, музыка, стихи... Каждый день и час, каждая минута. И эта динамичность — непредсказуема. Все — неостановимо.
Я всегда ощущал это. Может быть, поэтому и спешил. Всю жизнь. Пытаясь не опоздать, догнать уходящий день, не оказаться в дне вчерашнем.
Прав великий Леонардо, сказав: «Вода, в которую мы входим, — последняя из той, что уже протекла, и первая из той, что течет к нам; таков и настоящий день». Надо помнить об этом.
Каждая личность — неповторима и потому — драгоценна. Признательность многим незаурядным людям переполняет мое сердце. И это одна из причин для написания книги.
Сейчас пришло время остановиться. И оглядеться. А оглядевшись, разобраться: что было, что свершилось. И вот, наряду с уже ушедшими, мысленно вижу я своих современников, тех, кто живет, творит, действует сегодня. Таланты, мастера, первопроходцы, отважные люди, которые боятся в жизни только одного — неполно выразить себя, недосказать, недопеть, недописать.
Их много было вчера и много сегодня — своеобразных людей. И сложных. Талант и не может быть простым: в нем много слагаемых, и их сложнейшая взаимосвязь многозначна.
Друзья, соратники, ученики...
Их много, и это очень радует. Потому что в их творчестве есть часть (пусть малая) и моего сердца, и моего участия. Эти люди дороги мне не только своими достоинствами, но и недостатками, и причудами. Ведь теневые стороны их характеров — тоже одна из граней таланта. В этом — тоже проявление разнообразия личности.
И пусть на страницах моей книги состоится наша встреча. Хотя бы в моем воображении. И тогда страницы наполнятся их голосами, биением сердец, радостью и душевностью.
Значит, в путь. Нелегкий, но отрадный.
Я начинаю долгую беседу с ними. Приглашаю и вас, тех, кто приготовился прочитать эти страницы.
Начинаем...
Похвала эстраде
Я рад, что в мою судьбу более тридцати лет назад стремительно вошла эстрада. Мои встречи с ней, впечатления — незабываемые страницы жизни.
Эстрада — это целый мир, со своими сложностями, законами, со своеобразной этикой, с особым пониманием дружбы, взаимовыручки. И вместе с тем — с жестокостью, открытой борьбой за выживание.
Да, это так. И закрывать глаза на особенности этого мира — значит искажать его.
Эстрада динамична: она всегда в обновлении, устремлена в завтрашний день. И устремление это — яркое, звонкое и веселое. Данное обстоятельство чрезвычайно важно для понимания этого искусства.
Здесь нельзя останавливаться. Задержка — смерть. Тогда тебя сразу обгонят, оттеснят братья-соперники: театр, кино, телевидение.
Но эстрада — вечно побиваемая, унижаемая, даже уничтожаемая и вновь возрождающаяся — давно выработала в себе защитную силу сопротивления. Издавна — еще с XIV – XV веков, а может быть, и раньше — в разных странах родилась народная эстрада. Тогда она, конечно, называлась не так. И в средние века, и в эпоху Ренессанса актеры различных жанров назывались иначе — мимы, жонглеры, буффоны, гистрионы. Это были не театральные актеры: комедиа дель арте родится позже, в XVI веке. В их выступлениях уже проявлялись черты, свойственные будущей эстраде. Сатира на городской быт и нравы, острые шутки на политические темы, критическое отношение к власть имущим, к церковникам, куплеты, комические сценки, прибаутки, игры, клоунская пантомима, жонглирование, музыкальная эксцентрика — вот зачатки будущих эстрадных жанров, родившихся в шуме и гаме карнавального веселья. Равно как и конферанс: его предшественниками были зазывалы. При помощи прибауток, острот, веселых куплетов они сбывали любой товар простодушным покупателям (оговорюсь — это без каких-либо намеков на сегодняшнюю жизнь).
Плебейский характер этих уличных игрищ несомненен, как и игровая природа народного действа. И еще одна важная черта — доходчивость и массовость! Это всегда было непременным условием существования веселых жанров.
Средневековые карнавальные артисты — предшественники сегодняшних «эстрадников» — как правило, не играли спектаклей. Основой выступлений на площадях мимов, жонглеров, гистрионов была, говоря сегодняшним языком, миниатюра. В выступлениях гистрионов отсутствовали сюжет, пьеса (эти элементы, связывающие действие воедино, — главная особенность театра). Игрища и игры состояли из различных номеров, а их исполнители владели словом, пели куплеты, разыгрывали сценки, показывали пантомимы, играли на различных музыкальных инструментах...
Были еще актеры-одиночки. Они умели делать многое, каждый был универсалом. Если они и собирались в актерские ватаги, то не для спектаклей, а для «сборных концертов».
Гистрионы не изображали персонажей — они всегда выступали от себя и от собственного имени, напрямую обращаясь к зрителям.
Это и сегодня — одна из главных отличительных черт эстрадного искусства.
Примечательно, что эстраду побаивались всегда. Еще со средних веков она привлекала пристальное внимание властей. Изгонять и запрещать ее стали уже тогда. И эта традиция благополучно дожила до нашего времени.
В те давние времена за эстраду взялась церковь и преследовала ее последовательно и жестоко. Церковники раньше других поняли, что карнавальное действо, с его буйным весельем, остроумным и злым осмеянием богатеев по сути было протестом против тех, кого хлестко «протаскивали» «народные забавники».
Протестовать можно различными способами — и восстаниями, и воззваниями, и оружием. Но смех и веселье тоже могут быть протестом. И очень сильным. Власти предержащие — надо отдать им должное — во все времена учитывали это. Карнавальным весельем народ как бы противопоставлял церковной аскетичности здоровое жизненное начало.
Это лишь некоторые из форм существования средневековой эстрады.
Очень давно возникли и масленичные комические игры. Облаченная в шутовскую форму критика государственного устройства, а также церкви стала основой этих массовых действ, где тоже исполнялись веселые и злые сатирические сценки, песни.
Масленичные народные представления оказали влияние на рождение в XV веке одного из интереснейших явлений того времени — «дурацких обществ». «Орден дураков», «Беззаботные ребята», «Рогоносцы» — эти шутовские объединения устраивали «праздники дураков», во время которых остроумно высмеивали нравы королевского двора, судейских, духовников. Но и власти не дремали, они всегда были начеку. Однажды упрятали в тюрьму целое «дурацкое общество» «Бадошь». Так невинные, казалось, шутовские забавы приобретали значимость политических выступлений и воспринимались достаточно серьезно. Недаром небезызвестный кардинал Ришелье (уже позже, в XVII веке) специальным указом запретил шутовские общества.
Было еще одно своеобразное проявление духа протеста. В средневековых городах Европы существовали «риторические камеры» — литературные объединения, занимавшиеся, как бы мы теперь сказали, созданием сценариев и организацией народных карнавалов и гуляний. В них риторы тоже не в лучшем свете выставляли сеньоров, епископов, даже иезуитов, что по тем временам нередко было совсем не безопасно.
Их остроумные стихи, куплеты, песни, созданные на основе фольклора, восторженно воспринимались простым людом.
Естественно, что и риторов — этих предтеч нынешних авторов-сатириков — постоянно преследовали, гнали. Только диву даешься — как средневековые нравы сохранились до атомного века! Но ведь дожили!
Когда же клирики-ваганты в своих остроумных сатирах замахнулись на самого папу римского (!) — власти решительно расправились с этими «авторами-исполнителями»: кого бросили в тюрьму, кого просто уничтожили. (Как это похоже на то, как совсем недавно в нашей стране «избивали» современных сатириков! Методы расправы со времен средневековья не изменились.)
Но и в те времена «общества дураков» не сдавались и не складывали оружия. В XV веке в шутовских объединениях возник особый комедийный жанр «соти́» (дурачество) — своеобразное обозрение, составленное из сатирических эпизодов и построенное по принципу эстрадного ревю.
«Дуракам» позволялось многое. Ведь дурак — на то он дурак и есть.
Честь и слава мужественным средневековым авторам и артистам, прикидывавшимся дураками!
* * *
Под этой маской существовали и российские скоморохи. Они тоже доставляли много неприятностей властителям России, и светским, и духовным.
Издревле творческий дух народа находил на Руси выход в песнях, плясках, комических скоморошьих играх и «глумах». Жизнерадостность, готовность к шутке, к насмешке — все это нашло воплощение в «смеховой культуре» или, говоря словами А. Н. Островского, «комической производительности». Наиболее ярко это сказалось в скоморошьих забавах, потехах и в массовом творчестве — народных гуляньях. В них — истоки российской поэзии, музыки, театра. И эстрады тоже.
Раусные деды[1], петрушечники, раёшники, вожаки «ученых» медведей были непременными участниками народных гуляний. И конечно же, актеры-скоморохи (или «охотники», как их тогда называли). Они вели злободневный «конферанс», разыгрывали «скетчи» и «репризы», играли на дудках, гуслях, сопелях. Потешали народ, который встречал хохотом их шутки.
Одним из сильнодействующих средств была — не побоимся этого слова! — политсатира. А как еще назвать скоморошьи выпады в адрес власть имущих? За это скоморохи подвергались жестоким гонениям, отзвуки чего находим даже в летописи — «Повести временных лет»: «Таких людей дьявол обольщает и другими способами, отвлекая нас от Бога всевозможными соблазнами: трубами и скоморохами, гуслями и русальи» (имелись в виду праздничные гулянья). Вольное скоморошье искусство на Руси воспринималось властями как дьявольский соблазн.
Еще бы! Летопись говорила о большой опасности для церкви: скоморошьи игры и братчины шли при «аншлагах» (как сегодняшние эстрадные представления), а церкви — пустовали (как сегодня залы провинциальных филармоний на камерных концертах). И этому тоже есть свидетельство в той же «Повести временных лет»: «Ведь мы видим места для игрища утоптанными, и людей много множества, яко происходит давка, когда начинается представление, от беса замышленного дела. Егда же бывает год (т. е. время) молитвы, мало их обретается в церкви».
В XVI веке «Стоглав» запретил скоморошество, назвав его кратко и определенно: «бесовское позорище». Осудил скоморошьи потехи и «Домострой».
При царе Алексее Михайловиче скоморохи были вообще истреблены. Всемогущее боярство и церковные власти много способствовали этому, тщательно «подготовив» царя-батюшку.
Но «забавники» оказались живучи: скоморошество, перестав так называться, не исчезло, ибо не могла исчезнуть извечная тяга народа к шутке, острому словцу, насмешке, веселью. Не удалось царским «грамотам» задушить способность русского народа к «комической производительности», к критическому складу ума, бойкому меткому языку. Скоморохи оставались жить вопреки всему. Они только стали зваться «народными забавниками», «потешниками». Но приняв «дурацкий» вид, они не изменили существу скоморошества: по-прежнему потешали простой люд сатирами, заставляя людей задумываться над несправедливостью жизни.
...И в наше время не сладка жизнь сатириков. Трагичной была жизнь Михаила Зощенко, задыхавшегося в смрадном болоте поношений, доносов, издевательств и унижений.
Запрещенный Михаил Булгаков жил «с наглухо зажатым ртом». Каким же мужеством, какой верой в свою правоту надо было ему обладать, чтобы выдержать многолетнее «хождение по мукам» и не сдаться, не отступить, не согнуться? (Помните, у Анны Ахматовой: «Ты так сурово жил и до конца донес великолепное презренье...»?)
Таинственная, скрытая за глубокой печальной иронией философская сатира Андрея Платонова тоже была вовремя «оценена» по достоинству, в результате чего он бедствовал, голодал, работал дворником при Союзе писателей, потерял сына, которого сгноили в тюрьме.
До сих пор не могу найти объяснений, почему Сталин оставил их всех в живых, хотя жестоко расправлялся с людьми и по более безобидным поводам? Почему выжили они — гениальные сатирики, — искусство которых было для властей опаснее пушек и бомб?
А Владимир Маяковский? Пока воспевал, он был нужен. Но когда появилась целая серия сатирических эскапад поэта — «Клоп», «Баня», поэма «Плохо» (после октябрьской поэмы «Хорошо»), остро критические стихотворения, — Маяковский испил полной чашей издевательства, унижения, угрозы. И не захотел ждать, чтобы за ним пришли. Он сам предупредил назревающие и, очевидно, неизбежные события...
А уже в наши дни?
Долгое время «в загоне» был Михаил Жванецкий — «первая перчатка» отечественной сатиры 70-90-х годов. Где-то в полуподполье попрятались Аркадий Хайт, Семен Альтов, Игорь Виноградский, Альберт Левин, Ефим Смолин и многие другие. А сегодняшнее «скоморошье племя», «народные забавники», «потешники», гистрионы? Сегодняшнее «дурацкое общество»? Как там они?
Даже Чарли Чаплину — комику века — жилось трудно. И даже — заметьте! — в свободном мире капитализма. Ему не могли простить в Америке, что он видел только одну-единственную сторону жизни — печальную. И сатирически высмеивал причины этого. Даже когда президент Франклин Рузвельт провозгласил «новые времена» для американского общества, Чаплин и это вывернул наизнанку и высмеял саму идею «всеобщего благоденствия».
А как он осложнил себе жизнь, сняв «Великого диктатора», подвергнув в этом гениальном фильме безжалостному осмеянию самого Гитлера! После «Диктатора» он был внесен в «черные списки» гитлеровцев под № 1, и нацистские ищейки охотились за Чаплиным, ибо был приказ уничтожить его. Но великая свободная Америка выжила своего гениального сатирика, и он был вынужден покинуть ее.
А у нас? Кто вспомнит про инфаркты, «заработанные» великим сатириком Аркадием Райкиным во время трудных выпусков новых спектаклей?
Кто знает, сколько угроз раздавалось в адрес Геннадия Хазанова, когда он осмелился исполнить по телевидению шуточный монолог о советском разведчике, — тогдашнее руководство КГБ усмотрело в этом неуважение к Комитету.
Сколько нервов потрачено Юрием Тимошенко и Ефимом Березиным, Ильей Набатовым, Романом Карцевым и Виктором Ильченко, Евгением Петросяном, Кларой Новиковой и многими другими — не столь известными? Несть им числа.
И слава их стойкости — они выдержали. И — победили. Несмотря на все запреты, указы, постановления. А если бы они не выстояли — какой обедненной стала бы сегодня наша эстрада!
Сатирик должен быть не только талантлив, находчив и остроумен. В неменьшей мере ему должны быть присущи смелость и мужество.
Иначе — нельзя. Ни в средние века, ни в наше время.
А власть всегда будет оберегать свое благополучие, не отделяя его от благополучия государственного. В этой нерасторжимости — главная опасность. И для сатиры и сатириков.
Сегодня их искусство приобрело силу воздействия невиданную! Раньше несколько тысяч (пусть несколько десятков тысяч) были зрителями эстрадных концертов. И слово сатирика воздействовало на эти тысячи.
А сегодня? Артист выступает по телевидению, и его смотрят одновременно 200 – 250 миллионов! И острое слово оказывает мгновенное и неотразимое действие на миллионы!
Всему мужественному племени сатириков — честь и хвала! И наша благодарность. И низкий поклон.
Но не только им. Всем, кто бился за эстраду, отстаивал ее: певцам, артистам речевых жанров, музыкантам, артистам балета, режиссерам, художникам, композиторам, поэтам...
Потому что эстрада — понятие чрезвычайно широкое. Это не только Аркадий Райкин, Алла Пугачева, Махмуд Эсамбаев... Это и ансамбль «Березка», и хор им. Пятницкого, и ансамбль Игоря Моисеева, и эстрадно-симфонические оркестры, и... И многое другое.
Мой рассказ — не о несчастьях эстрады, не о негативных сторонах ее, ибо об этом так много сказано и написано, что говорить на эту тему просто уже нет сил. Ругать эстраду — тоже привычно и просто.
Я хотел бы повести разговор о высокой эстраде, о том ярком явлении в искусстве, которое всегда вызывало и вызывает большой интерес у всех.
Давайте хвалить ее! Тем более, что есть за что. Она так нуждается в этом и так достойна похвалы — живая, острая, звонкая, талантливая ЭСТРАДА!
Хула эстраде
Я был искренним, когда писал предыдущую главу. Но хочу быть искренним до конца, и потому надо сказать и об изнанке дела, которому я воздал хвалу.
А она, увы, существует.
В последние годы эстрада зачастую оборачивается к зрителю именно своей изнанкой. И это болезненно ощущают не только артисты, но и режиссеры.
«...Ты понимаешь, старик, в чем злая суть, — мрачно напутствовал меня, оптимистично возбужденного, по окончании аспирантуры ГИТИСа профессор И. Г. Шароев, — режиссер эстрады — фигура самая трагическая во всей системе театральных искусств». «Кокетничает мастер», — подумалось тогда. Но вот промчались годы, и нынче, в славные времена разгула демократии (читай — вседозволенности), времена фальсификации профессии режиссера эстрады, слова умудренного опытом педагога обрели поистине трагический смысл.
Наша отечественная эстрада, с ее традициями, с ее неподражаемым умением во все времена любых социальных катаклизмов будоражить умы и сердца людей, брошена на произвол судьбы, на откуп дельцам от искусства. Этим прыщам, высыпавшим на теле нашей многострадальной эстрады, даже невдомек, что в погоне за наживой они не просто торгуют сегодняшним искусством, используя хроническое финансовое голодание дорвавшихся до шальных денег артистов, а калечат, разлагают души грядущих поколений зрителей, хлынувших на бесчисленные, оболванивающие своей безликостью, похожестью тусовки».
Это написано одним из моих учеников — теперь кандидатом искусствоведения, лауреатом I Всесоюзного конкурса режиссеров эстрады — Валерием Яшкиным.
Подтверждаю: я в самом деле тогда высказал горькую истину о режиссерском одиночестве. И хотя со времени того разговора прошло немало лет, я и сегодня могу подписаться под каждым своим словом. Тем более что, с моей точки зрения, сегодня стало еще хуже. И — намного. И выхода, похоже, нет.
Снова похвала. Хочу оговориться — далеко не все так мрачно, как может показаться. Время выдвинуло и талантливых менеджеров, деятельность которых прогрессивна, которые высоко держат уровень эстрадной культуры.
* * *
Крупные концертные организаторы в нашей эстраде были всегда. Но в прежние времена их деятельность протекала полуподпольно, так как государственные системы давили их инициативу и самостоятельность.
И все же — даже в тех железных тисках — они делали свое полезное дело. С оглядкой, вынужденные зачастую не афишировать свои «деяния», они создавали своеобразные сообщества, в которых были задействованы сотни людей.
Огромным уважением среди артистов эстрады пользовался Юрий Львович Юровский, которого все звали ласково «папа Юра». Благодаря его усилиям в нашей концертной жизни было создано многое — от Омского русского народного хора до новой структуры Росконцерта, необычайно расцветшего при нем. Но я был свидетелем и того, чего стоило ему помогать эстраде, ее процветанию и развитию, обходя дурацкие тогдашние законы и ограничения.
Эти «законы» отняли несколько лет жизни и у другого концертного организатора — Эдуарда Смольного.
Не могу не назвать и Константина Харлипа — воистину уникального директора многих декад национального искусства, с которым мне пришлось работать. Он обладал ценным и редким качеством — гордостью подлинного профессионала. Слова «нет» для него не существовало, если он поверил в режиссера и помогал ему.
Я вспоминаю, как за день до заключительного концерта декады якутского искусства в Москве мне потребовались две оленьи и три собачьи упряжки для выступления ансамбля охотников. И Отдел культуры ЦК, и министр культуры развели руками — это уж слишком, такие капризы молодого режиссера! «Это невозможно!» — Ответ начальства был категоричен. Но Харлип сказал: «Будет».
И на следующий день военным самолетом «перебросили» из Якутии в Москву нужные для концерта упряжки. Там, где бессильны оказались ЦК и министр, Харлип «обеспечил». Одному ему известными путями. Когда же на сцене Большого театра, где проходил концерт, я, чуть не в слезах, кинулся к нему со словами благодарности, Харлип, покосившись в сторону министра, с подтекстом ответил: «Ким, дорогой, это ведь профессия...»
Трудна, а зачастую и трагична была жизнь эстрадных продюсеров. То, за что теперь менеджеров и продюсеров возносят до небес, награждая их национальной премией «Овация», в те времена строго каралось «по закону».
Но в конце 70-х — начале 80-х годов, еще до «перестройки», в концертной практике исподволь стало зарождаться новое движение, которому было суждено в дальнейшем стать определяющим в жизни эстрады, — шоу-бизнес. И что весьма примечательно — это было движение молодых, пришедших на смену эстрадным «зубрам». Естественно, что у молодых рождались новые идеи и новые формы работы.
Они отказались от стандартного, вневозрастного зрителя и очень точно выбрали новый адрес: их союзниками стали студенты, старшеклассники, молодые рабочие. Миллионы зрителей. Это была огромная и чрезвычайно благодарная аудитория — горячая, отзывчивая, ищущая ответов на мучившие их вопросы. Ответов, которых не могли дать ни государство, ни школа, ни забитые скудной и суровой жизнью родители.
И — пусть это не покажется странным — шоу-бизнес стал своеобразным проявлением протеста. Шоу-программы, дискотеки, массовые действа... В них молодые наконец-то услышали то, чего жаждали, — скепсис насчет светлого будущего; откровенный — зачастую сгоряча, с перебором — разговор о любви, сексе; снисходительно-пренебрежительное отношение к почтенным «предкам». Словом, это было обращение к душам молодых, призыв поверить в собственные силы, не надеяться ни на кого — ни на папу, ни на маму, ни на комсомол, ни на родную партию... Лучше уж одиночество, чем вот такая вымученная общность, выдуманный спаянный коллектив, в который государственная машина силой загоняла молодых...
Так «перестройка» молодых душ началась задолго до официально объявленной, и запевалой тут стал шоу-бизнес. Его энергичные деятели надолго обогнали своих предшественников — старых администраторов прежней эстрады. Правда, мы не должны забывать, что «зубры» никогда и не были хозяевами «дела» — они работали в государственной системе, и львиная доля их незаурядной энергии уходила на то, чтобы обойти эту систему и ее законы.
У менеджеров «новой волны» условия были иные — они добились самостоятельности, став полновластными хозяевами. Кстати, это потребовало еще большего напряжения сил, большей ответственности и смелости.
Да, шоу-бизнес — непростое и неоднозначное явление. И хвала тем молодым, кто еще лет пятнадцать назад услышал зов времени и сумел пробиться к сердцам молодого поколения. И это новое поколение пошло за теми, кто открыто говорил ему о нашей унылой жизни, кто воспевал, вопреки всему, силу молодости, любви, давая хоть какую-то надежду на завтрашний день.
И здесь необходимо назвать имя, сегодня знакомое многим. Имя одного из пионеров шоу-бизнеса. Это молодой Сергей Лисовский, основатель и президент фирмы «ЛИС'С». Он может служить образцом деятелей «новой волны». Его бесспорный организаторский талант сочетается с высокой культурой и безошибочным вкусом. Он родился в профессорской семье, в юности прошел школу комсомольской райкомовской (!) работы. Думаю, что если бы Сергей Лисовский пошел и дальше по общественной стезе, то возглавлял бы сегодня какое-нибудь крупное общественное движение или сидел бы в одном из самых «важных» кабинетов. Но его влекло другое: яркие зрелища, громкая современная музыка, тысячи людских глаз, светящихся восторгом, шумный успех — словом, то, что всегда сопровождает талантливую эстраду. В шоу-бизнесе он создал свою «империю», объединив первоклассные эстрадные группы и выдающихся исполнителей. Фирма «ЛИС'С» работает настолько четко и слаженно, работа в ней построена так разумно, что напоминает мне (не обижайтесь, менеджеры отечественного образца!) блаженные дни моей работы с профессиональными западными фирмами.
С. Лисовский заставил говорить о себе несколько лет назад, и с тех пор гриф его фирмы стал знаком, узнаваемым миллионами. Когда я думаю о том, что этому «генератору идей» всего 33 года, то представляю, сколько еще нового и неожиданного «выдаст» он в свет.
Доброго слова заслуживают и Самвел Абрамян — президент фирмы «Менеджер», и директор и художественный руководитель Государственного концертного зала «Россия» Петр Шаболтай, и Игорь Гранов, и Николай Бутов, и директор хора им. Пятницкого, талантливая Александра Пермякова...
Особо хочется мне сказать о продюсерской деятельности Аллы Пугачевой — создательницы замечательного «Театра песни», о ее «Рождественских встречах» во дворце «Олимпийский».
Много благотворительных акций в области эстрады провели Иосиф Кобзон и Отари Квантришвили.
Необходимо назвать и Павла Слободкина, создавшего в Москве, на Арбате, интереснейший музыкальный центр...
Это талантливые организаторы, люди деятельные, творческие. Но, увы! — они исключение из общего правила.
Опять хула. Жизнь эстрады — точное отражение процессов, происходящих сегодня в стране. Много «джиннов» выпущено из бутылки за последние годы. Результаты — налицо.
В такие тупиковые времена, как сейчас, культура бьется насмерть с темными силами. Бьется отчаянно, понимая, что дальше может быть еще страшнее — «черные дыры», откуда возврата нет. И в этой битве не последнее место уготовано эстраде.
Позволю себе еще раз привести слова Валерия Яшкина:
«В удручающих тусовках, под громыхающие заезженные фонограммы (зачастую не свои), в невероятных ужимках и прыжках изгаляются доморощенные Маши и Миши, Ромы и Риммы и, разбивая вдрызг незвучащие струны и клавиши, выжимают потоки перемешанных с дешевой тушью слез у музыкально и сексуально созревающих поклонниц, сливающихся в едином психоделическом экстазе с конвульсивно бьющимися на стульях ревущими сверстниками».
Раньше режиссер был создателем спектаклей, программ, воспитателем будущих звезд. Он многое определял на эстраде и в массовых зрелищах. От его таланта, его культуры, вкуса, фантазии зависело развитие жанров, их стиль. С именами режиссеров было связано появление целой плеяды артистов эстрады.
А ныне?
И снова горькие, но правдивые слова Валерия Яшкина:
«...Понятие «режиссура» стало использоваться как дополнительная легальная статья для «вымывания» денег... Святая эта профессия, к которой люди идут годами образования, поисков, размышлений, страданий, подразумевает интеллект, фантазию, способность сочинять, творить, создавать... Но разучившиеся краснеть, случайные на эстраде люди, на всех тусовочных афишах с апломбом, зачастую вдвоем-втроем, величают себя режиссерами-постановщиками. Среди этих новоиспеченных «Станиславских» — в основном густо расплодившиеся «жуки»-администраторы, случайные «работники культуры» всех мастей и напористая журналистская братия». Читать это тяжело и обидно, но увы... Режиссеров-профессионалов в этой свистопляске отодвинули на задний план «умелые» деляги, влезшие в святое дело режиссуры. Воевать с этой братией трудно, потому что они связаны с исполнителями, заинтересованными в гонорарах; с руководителями концертных организаций, которым по многим причинам выгодно держать эту «шатию»; с определенной частью прессы...
Эстрадный «джинн» выпущен из бутылки. Найти бы, кто его выпустил! Нет виноватых и все тут! Как не найти виноватых в развале нашей экономики, в уничтожении сельского хозяйства, в трудностях, что душат великую страну...
Чем внимательнее я перечитываю справедливую статью моего ученика, тем более понимаю: глас вопиющего в пустыне... И думается — кому нужны наши воззвания? Кому вообще сегодня нужна культура? Тем более эстрада. Кому мы вообще нужны? И видятся мне наглые типы, читающие статью (если вообще они ее читали) Яшкина и ухмыляющиеся в адрес всех нас — этаких «инопланетян», залетевших из других галактик, наивных и ничего не понимающих. Всех тех, кто даже своим присутствием мешает им окончательно разрушить то, что осталось от эстрады.
Что же дальше? Куда бредем в потемках? И куда придем мы, грешные? Как потом выбираться из этой ямы, в которую зарываемся? Все глубже и глубже.
Может быть, я сгущаю краски? Преувеличиваю? Нет! Напротив, даже несколько обеляю, чтобы не так уж казалось все черно на эстраде. На ней и в самом деле много талантливого и хорошего. И сегодня на ней работает плеяда замечательных артистов. Они несут людям радость, улыбку, надежду.
Но мутная волна тревожит всех, кому дорого это жизнерадостное искусство. Волна, к несчастью, набирает силу и по своей сокрушительности приближается уже к цунами.
Кто остановит цунами?
СЕМЬЯ

Мои родители: отец — Георгий Георгиевич и мама — Валентина Николаевна

Мой брат Антон — скрипач и дирижер

Сын Игорь

Со мной две Ириши — жена и дочь
Юность

ГИТИС, 1949 год

ГИТИС, на занятиях с Л. В. Баратовым, 1948 год

Большой театр, я — ассистент Л. В. Баратова, 1954 год
НОСТАЛЬГИЯ
Приход
Моя судьба сделала неожиданный зигзаг: осенью 1959 года я пришел в эстраду. До того этим видом искусства я не занимался — по образованию я режиссер музыкального театра, пять лет проработал в Большом театре. С 1957 года начал ставить театрализованные концерты. Конечно, в них мне приходилось работать и с артистами эстрады разных жанров, но это искусство я, откровенно говоря, знал скорее понаслышке. Я любил эстраду, хотя и издалека: она всегда мне импонировала своей яркостью, броскостью, своеобразием проявления талантов. Сокращать эту дистанцию в мои планы не входило.
В те годы основным организационным звеном в эстраде было ВГКО — Всероссийское гастрольно-концертное объединение. В него входили Мосэстрада, Ленконцерт, Московский театр эстрады и то, что впоследствии называлось Росконцертом. Так что под крышей ВГКО были собраны главные творческие силы.
Министерством культуры я был назначен главным режиссером этого объединения. Направив меня сюда, начальство сделало, по-моему, еще один непродуманный шаг в ряду своих «ляпов».
До ВГКО я почти год проработал художественным руководителем Кремлевского театра. Мои отношения там как-то не сложились, и я вынужден был уйти оттуда.
И тут началась цепь парадоксов. Министерство культуры РСФСР не захотело со мной расставаться. В Отделе культуры ЦК КПСС и в министерстве, очевидно, оценили мое бесстрашие: я один на один «сражался» с могущественной организацией, владевшей Кремлевским театром — комендатурой Кремля, — и решили не отпускать меня «на свободу». Предложили для начала возглавить Управление театров и стать членом коллегии министерства.
Но я был непреклонен. Вкусив «прелести» руководства и познав на собственной шкуре, что в критической ситуации ты остаешься один-одинешенек, всем на растерзание, я решил бежать куда глаза глядят. Мой отказ был неодобрительно встречен «руководителями культуры». На меня стали «давить». Но я не сдавался и держался до последнего. Тогда, в назидание другим, меня решили проучить за строптивость. В качестве наказания (так прямо и говорили) приняли решение «сослать» меня в эстраду. «Там он хлебнет! — веселились в министерстве. — Он еще прибежит к нам».
Скрепя сердце я согласился. И оказался в новой для себя среде, не зная, что меня ждет там. Но я был молод, самонадеян, и дух авантюризма провоцировал на рискованные дела.
В ВГКО все знали, что я пришел из Кремлевского театра, и на первых порах называли меня «наш комиссар».
Что представляла собой эстрада в конце 50-х — начале 60-х годов? Ее уровень был чрезвычайно высок. Музыкальную часть украшали три первоклассных джаза: Леонида Утесова, Олега Лундстрема и Эдди Рознера. Эти яркие личности определяли направление, стиль, репертуар своих славных коллективов.

К. И. Шульженко
Певческая эстрада была представлена в основном женской частью: Клавдия Шульженко, Гелена Великанова, Нина Дорда, Капитолина Лазаренко, Нина Пантелеева. В жанре народной песни еще блистали Ирма Яунзем и Лидия Русланова. Но уже возникли имена Майи Кристалинской, Анастасии Кочкаревой, Ирины Бржевской, Тамары Миансаровой. Постоянно выступали на эстраде с песнями Марк Бернес, Владимир Трошин, Николай Никитский, несколько позже появился Валерий Ободзинский.

Л. Б. Миров и М. В. Новицкий


А. С. Менакер, М. В. Миронова

Н. П. Смирнов-Сокольский, О. Л. Лундстрем

А. А. Акопян, Л. С. Маслюков

Г. М. Великанова

Вероника Маврикиевна и Авдотья Никитишна — В. Тонков и Б. Владимиров — мои однокашники
Г. Хазанов
На репетиции в Кремлевском Дворце
В речевых жанрах созвездие талантов было поистине уникальным. Активно работало старшее поколение: Николай Смирнов-Сокольский, Илья Набатов, Михаил Гаркави, Лев Миров и Марк Новицкий, Мария Миронова и Александр Менакер, Афанасий Белов, Рина Зеленая, Александр Шуров и Николай Рыкунин. Уже «на подходе» к ним были Борис Брунов и Олег Милявский. Если принять во внимание, что Аркадий Райкин ежегодно по 3—4 месяца выступал в Москве, то картина получится впечатляющей.
В оригинальном жанре блистали Тамара Птицына и Леонид Маслюков, Раиса Калачева и Михаил Птицын, Арутюн Акопян, Дик Читашвили...
Это был поистине «золотой век» нашей эстрады, ее «звездные» годы.
И это — в одной Москве! Я не говорю о Ленинграде, где было много своих мастеров. Но мне пришлось работать в основном с московскими артистами, поэтому мой рассказ будет ограничен рамками столицы.
У эстрады 60-х годов было драгоценное качество, ныне утерянное, и, боюсь, навсегда. Она была значительно добрее, чем сегодня, душевнее и... спокойнее. Да, именно спокойнее. И еще — в ней было достоинство. Не было того утрированного, громогласно выраженного отчаяния, несколько истеричного протеста, дерзостного желания все отвергнуть, сокрушить — того, что отличает сегодняшнее молодежное искусство.
И на то были причины: эстрада — всегда чуткий барометр настроения народа, его устремлений и надежд. Сегодняшняя — это детище 80-х – 90-х годов. И вся неустроенность, озлобленность, суматошливая суета, лихорадочные и часто безнадежные поиски выхода из тупика, ощущение обреченности и ненужности своей — вся наша жизнь воплотилась в трагических возгласах теперешней песенной молодежи.
Эстрада 50-х – начала 60-х несла на себе отблеск хрущевской «оттепели» и тех на строений в стране, в которых преобладала вера в лучшую жизнь и надежда на осуществление задуманного.
Конечно, в тогдашней эстраде не было сегодняшней острейшей публицистики, откровенного разговора на политические и общественные темы, тогда не рисковали затрагивать все те проблемы, на которые замахнулись ныне. Да если бы и отважились — всё бы живо прихлопнули несмотря ни на какие «оттепели».
Да, та эстрада была спокойнее и тише. Но признаюсь — в моей душе осталась ностальгия по той, такой далекой, окутанной дымкой легенд, доброй и душевной эстраде. Она и тогда будоражила, звала людей, но звала к другому, нежели сегодня. И я не знаю, какой из них отдать предпочтение — сегодняшней или той...
Не буду сталкивать их, противопоставляя и разводя по разным углам. Много достойного есть и сегодня. Много славного было и тогда.
Наверное, ностальгия обусловлена еще тем, что то была эстрада моей молодости? Конечно же, и этим объясняется мое отношение к ней. Но — не только этим.
Скорее, это ностальгия по тому времени, когда вступила в жизнь и в искусство плеяда людей, прозванных «шестидесятниками».
Мы должны помнить: никто из нас не начинал на пустом месте. Перед нами шло поколение великих талантов, вложивших Души и сердца в создания своего времени. Мы приняли от них поле вспаханным, ухоженным, где взрастали добрые посевы, дающие радость людям. Не следует забывать об этом.
...Итак, 1959 год. Для меня начинается новый этап. Отныне я связан с эстрадой — на долгие годы.
И вот я сижу на амвоне в церкви, что на проезде Владимирова (теперь это снова Никольский переулок), в самом центре Москвы, рядом со зданием ЦК КПСС. Это не неуклюжая шутка: ВГКО и в самом деле размещалось в бывшей церкви, а кабинет главного режиссера был устроен на амвоне, куда вели три широкие ступени.
По поводу главного режиссера, восседающего на амвоне, артисты эстрады мгновенно начинают веселиться: слагают куплеты, пишут эпиграммы. Часть из них доходит до меня, сначала веселя, а потом и раздражая своей назойливостью. Через мой кабинет ежедневно проходит нескончаемый поток людей; придумывая всякие проблемы, они приходят поглазеть на вновь испеченного главного. Все они «зубры» эстрады и знают все наперед. Они уже видели вереницу худруков и главрежей, которые приходили ненадолго и быстро уходили. Я для них — один из многих. Некоторые так прямо и спрашивают, мило улыбаясь:
— Вы к нам надолго?
— Это будет зависеть от вас.
— Но и от вас!
— Конечно. Но все вы будете или помогать, или мешать.
— Мы всегда помогали всем вашим предшественникам!
— Они поэтому ушли?
В первые же дни я получил от артистов и администраторов массу предложений: срочно поставить десятки номеров — от речевых жанров до дрессировщиков удавов, — поставить эстрадные программы, написать сценарии...
К вечеру, когда прекращался этот пестрый поток, я, вспоминая прошедший день, проклинал себя — зачем согласился? Но было поздно: я уже «приступил к обязанностям».
На эстраде всегда было непросто. Сложности, и большие, были и в те годы. Обстановка тогда была такова, что всей жизнью эстрады управляли старые мастера, группировавшиеся вокруг Московского театра эстрады. Это был своеобразный ареопаг. Все определяли они: их слушались, их мнение было решающим, и никто его не оспаривал.
Я в этом убедился, когда впервые встретился со «стариками» на совещании в театре.
На художественном совете ВГКО предстояло утвердить план работы на 1960 год. Управляющий ВГКО, боявшийся эстрадных «стариков», уговорил меня предварительно обсудить план с ними. «Старики» ехать в ВГКО отказались и назначили встречу в своем «штабе». Все собрались в кабинете Н. П. Смирнова-Сокольского, художественного руководителя театра.
* * *
О Николае Павловиче разговор особый. Это была фигура ярчайшая. Именно он стал создателем Театра эстрады, и, если бы не его неуемная энергия и «всепробиваемость», этого бы театра Москве не видать.
Смирнов-Сокольский обладал редким даром руководителя: он привлек к работе лучшие артистические силы, лучших сатириков, отличных композиторов.
Борис Ласкин, Владимир Поляков, Владимир Масс и Михаил Червинский, Владимир Дыховичный и Морис Слободской, Яков Костюковский, сам Смирнов-Сокольский писали для театра интермедии, сценки, монологи.
Были приглашены композиторы Матвей Блантер, Александр Цфасман, Александр Долуханян, Никита Богословский и другие.
В театре забурлила жизнь.
Конечно, для эстрады это стало новым стимулом, и в первые годы существования театр работал интенсивно и интересно. Программы «Его день рождения», «Добро пожаловать» с участием многих мастеров, построенные на добротном литературном материале, имели успех у зрителя. Но в постоянном участии в каждой программе одних и тех же «мэтров» таилась и некая «мина замедленного действия».
На сцене у каждого крупного мастера была своя неповторимая маска. За грани этого образа, складывавшегося годами, никто из них не рисковал выйти. Да это, очевидно, и было невозможно. Поэтому каждая новая программа театра, где почти всегда было обязательным участие одних и тех же артистов, по существу, была еще одним вариантом старого, уже бывшего в употреблении.
Менялись авторы, постановщики, писались новые декорации, звучала новая музыка, но старые мастера оставались в своих — уже привычных — масках. Поэтому интерес к Московскому театру эстрады постепенно пропадал, и его творческий актив понемногу начал таять. Программа «Московские вечера» (сценарий, пролог и конферанс В. Полякова и Н. Смирнова-Сокольского), поставленная в эстрадном театре сада «Эрмитаж» летом 1959 года, одобрения не встретила и успеха не имела.
Н. П. Смирнов-Сокольский переживал за судьбу своего детища, но продолжал бороться: требовал большую постоянную труппу, дотаций. Ему обещали, но, как обычно, ничего не дали. Постепенно и он сам стал охладевать к театру: все реже появлялся на его сцене и в концертных залах, сосредоточившись на писательстве.
У него была страсть — собирательство книг, их систематизация. Библиофилом он был выдающимся и писал о биографиях книг, о поисках и находках — замечательно. В 1959 году вышли его «Рассказы о книгах», в 1960 году — второе издание. Он был принят в Союз писателей, введен в Ученый совет Библиотеки им. Ленина, участвовал в работе «Клуба любителей книги», продолжал пополнять свою уникальную библиотеку и даже исполнял на эстраде фрагменты из «Рассказов о книгах».
Человек он был неуемный. Темперамент захлестывал его. Вокруг него всегда бушевали силы — и центростремительная, и центробежная. Эти силы постоянно сталкивались, производя взрывы. Вокруг него вообще постоянно было много шуму. «Он ничего не делал тихо — громкий был человек!» — писала о нем его супруга Софья Близниковская.
Человек чрезвычайно эрудированный, он не получил систематического образования: окончил всего три курса Коммерческого училища. Но в нем билась научная жилка — дар исследователя, ведущего многие годы библиофильский поиск. Уникальная библиотека Николая Павловича после его смерти была целиком передана в Библиотеку им. Ленина. (Теперь у нее другое название — Российская государственная библиотека.)
Он по праву считается родоначальником публицистического фельетона на эстраде — и как автор, и как исполнитель.
Всю жизнь Н. П. Смирнов-Сокольский боролся за достоинство артиста, за уважение к Эстраде. Он всегда был в спорах, в конфликтах. На коллегиях Министерства культуры, на худсоветах, на всевозможных совещаниях и конференциях всегда были слышны раскаты его низкого хрипловатого голоса, изрекающего одну за другой остроумнейшие сентенции в любой адрес — министра, его замов, любого должностного лица. Острослов он был грандиозный, попасться ему «на язычок» было опасно.
Что же касается его актерских дел, то тут у меня (каюсь!) возникали сомнения. Начиная с внешнего вида (критика в восторге писала об «образе советского фельетониста», прославляя внешний вид Смирнова-Сокольского). Он был всегда одет в длинный темный бархатный пиджак, на груди красовался большущий светлый бант: то ли костюм вундеркинда-музыканта, то ли парижский художник Марсель из оперы Пуччини «Богема», но уж никак не «образ советского фельетониста». Скорее — какой-то живой анахронизм, пришедший совсем из других времен.
Исполнял он свои фельетоны всегда в одной и той же наступательной грубоватой манере — независимо от содержания литературного материала. На эстраду он не входил — влетал, врывался и начинал наступать на зал — громко, уверенно и предельно позитивно. Мне он запомнился этаким рычащим оптимистом, полным пафоса веры в победу светлого будущего.
В обращении с людьми я не мог его воспринимать: много, увы, было крика, неожиданных выходок. Но все это было наносным, преходящим. Главное в Николае Павловиче — огромное желание и умение продвинуть эстраду в завтрашний день, сделать ее сильнее и лучше.
...И вот на встречу с таким своеобразным человеком направился я зимой 1959 года.
Помню, как войдя в кабинет, стоял под перекрестным огнем изучающих меня взглядов. Присутствовали Л. Утесов, Н. Смирнов-Сокольский, И. Набатов, Л. Миров, Л. Маслюков, М. Гаркави, М. Новицкий, А. Менакер и еще кто-то — уже не помню. Словом, весь цвет эстрады. Появление молодого худрука энтузиазма у присутствующих не вызвало.
То ли я показался им слишком молодым, то ли лицо мое не отвечало тогдашним эстрадным стандартам — бог весть. Но что было — то было: все «старики» смотрели на меня без особой симпатии. И мог ли предположить я, да и все присутствующие, что придет время, и большинство из них станут педагогами моей кафедры, и мы подружимся с ними на долгие годы — вплоть до конца славных их дней?..
Разговор, вначале сдержанный, осторожный, полный намеков и иносказаний, касался больной темы — как будут использованы «старики» в предстоящем сезоне? И нужны ли они вообще?
Этот вопрос — «может, мы уже не нужны? может, без нас?» — повторялся в каждом выступлении.
«Старики», наверное, сгоряча не учли, что составлению плана будущего года предшествовала достаточно скрупулезная работа: редакторам ВГКО было известно, что они хотели сами делать, а со сценариями и текстами, написанными для них, я был в основном ознакомлен. Все это, естественно, в плане было учтено.
Первым в поддержку плана выступил Утесов и ушел — торопился на репетицию.
Дальше разговор пошел без особых всплесков. Ожидаемого скандала не произошло: для него не было причин. Единственным, кто стал накалять обстановку, был Смирнов-Сокольский. Он почему-то ревниво отнесся к успеху только что прошедшего в Кремлевском театре моего спектакля-концерта «Красавица народная».
Это был лирический рассказ об искусстве народов Поволжья. Тема великой русской реки объединяла все многочисленные эпизоды спектакля, в котором был и целый ряд эстрадных номеров. Спектакль ставился в Куйбышеве (теперь — опять Самара). Когда шли последние репетиции и спектакль уже стал видеться как единое целое, мне пришла идея сопроводить все действие, которое происходило на теплоходе, комическими объявлениями из радиорубки теплохода (этот текст написал М. Грин).
«Прокатав» спектакль в Куйбышеве и Саратове, мы в декабре привезли его в Москву. В это время здесь проходило Всероссийское совещание по вопросам эстрадного искусства. Н. П. Смирнов-Сокольский приложил много сил для его организации. Он добился, что открытие совещания и дальнейшая работа проводились в Кремлевском театре. Заседания шли утром, а вечером на сцене был показ лучших работ. В их число был включен и мой спектакль.
Смирнов-Сокольский очень гордился успехом своей очередной инициативы. Он говорил: «Доведя эстраду до Кремля», верил, что теперь для нее наступил наконец-то «золотой век». Свою статью о совещании он назвал «Теперь дело пойдет!».
Несколько вечеров в Кремлевском театре выступали мастера эстрады, и стали уже распространяться слухи, что на один из спектаклей придет руководство страны.
Знаменитые популярные артисты, они тем не менее волновались, ждали. Но неожиданно руководство пришло на мой спектакль.
Не моя вина, что из всех эстрадных программ Хрущев выбрал именно «Красавицу народную». Веселое, полное музыки, песен и танцев, молодежное представление понравилось генсеку и всему Президиуму ЦК.
Первыми, кто отреагировал на это, были работники Кремлевского театра, из которого за несколько месяцев до этого я со скандалом ушел. После спектакля меня прямо-таки зацеловали: начальник театра, рабочие сцены, постановочной части, пожарники — словом, весь «славный коллектив». К общим восторгам потом присоединились и доблестные гардеробщики, еще несколько месяцев назад дружно позорившие меня.
Наутро центральная пресса посвятила «Красавице народной» восторженные рецензии.
Конечно, по тем временам такое представление было заметным событием. Настроение в стране царило приподнятое: хрущевская «оттепель» еще не буксовала, и всех нас окрыляла молодая надежда на лучшее. Думаю, что наш спектакль в какой-то мере был отражением этого.
Успех «Красавицы народной» радовал многих, так как большинство увидело в этом поддержку нашего общего дела, а не лично режиссера Шароева. Реакция же «стариков» была неожиданная. Может быть, их задело то, что я нарушил один из законов эстрады — обязательное присутствие в концерте звезд? Наш спектакль был «беззвездным», а успех тем не менее имел.
На совещании Н. П. Смирнов-Сокольский с неудовольствием обратился ко мне, спросив, почему Президиум ЦК проигнорировал другие спектакли, шедшие в Кремлевском театре, а выбрал мой. Я довольно резко ответил, что я не генсек, и с таким вопросом ему лучше обратиться лично к Хрущеву. Судя по всему, мой ответ «старикам» понравился, они даже заулыбались, переглядываясь. Улыбнулся и Смирнов-Сокольский и вдруг сказал примирительно:
— Ну, поймите нас. Мы, мастера эстрады, отдали ей всю жизнь. А теперь, значит, мы уже не нужны, а нужны вот эти ваши «Красавицы народные».
Я сказал ему (в чем был глубоко уверен тогда, в чем и сегодня не сомневаюсь), что эстрада настолько многообразна и многолика, что в ней всему, что представляет художественный интерес, найдется достойное место.
— Но это во многом зависит от вас, — перебил меня Смирнов-Сокольский. И неожиданно добавил: — Это я говорю вам как художник художнику.
«Старики» изумились, услышав эту сентенцию из уст того, кто обычно крыл и ругал всех, в том числе и меня.
На этом совещание закончилось. Мы простились вежливо, но не более. Было ясно, что я у них «не прошел». Потом мне дорого обошлось это неприятие меня «стариками».
Но прошло время, мы подружились и не без юмора вспоминали начало нашего знакомства.
Я сдержал обещание: к весне лучшие концертные площадки Москвы были предоставлены и мастерам эстрады, и молодым артистам.
Летом в Москве пошел новый спектакль-концерт «Северное сияние», который я поставил по своему сценарию. Героем спектакля стал молодой Кола Вельды (сценарий писался на него). Спектакль имел успех, хотя опять в нем не участвовала ни одна из звезд. Я продолжал линию, о которой заявил на встрече с мастерами эстрады.
В конце 1959 года ко мне на прием пришли Лев Миров и Марк Новицкий. С ними был режиссер Александр Конников. Говорил в основном Лев Борисович. Он интересно и увлеченно рассказал об их идее — создать мюзик-холл. (Этот жанр к тому времени был прочно забыт.) И убедил меня поддержать затею. Но прошло больше года, прежде чем состоялся первый спектакль Московского мюзик-холла.
В Московском театре эстрады
К осени 1960 года Н. П. Смирнов-Сокольский оставил пост художественного руководителя Московского театра эстрады. Его уход был тяжелым ударом не только для него самого, но и для дела. Вместе с ним ушел и директор; театр остался «без руля и без ветрил».
Когда мне предложили стать худруком театра, я, подумав, согласился: мне казалось, что наконец-то у меня в руках будет конкретное дело. В ВГКО меня мучило, что необъятное эстрадное хозяйство никак не поддавалось руководству. Ведь это был не театр, не стационар, где все всегда на месте и никто никуда не уезжает, не исчезает. Эстрада вечно в движении, в пути, и гастроли — одно из главных условий ее существования. Руководить многими тысячами концертов, ежедневно происходящими по всей стране, — утопия. Меня не случайно называли в ВГКО «худруком Черного моря». Обидно, но справедливо. Я понимал, что пора возвращаться к конкретным делам.
Бытует мнение, что в Московском театре эстрады никогда не было постоянной труппы. Но это верно только отчасти. Не было труппы общей — для больших спектаклей. Но актерские силы при театре существовали: это были четыре, как тогда называли, «постоянных коллектива», а по существу — четыре самостоятельных эстрадных театра.
Первый среди них — «Театр двух актеров», сатирический дуэт Марии Мироновой и Александра Менакера. Главной актрисой в нем была М. В. Миронова — уникальное явление, выдающееся дарование, создательница не просто незабываемой галереи женских типов, но больше — целого направления на эстраде. Талантливым и острохарактерным актером был и А. С. Менакер, обладавший от природы музыкальностью, вкусом, человек высокой культуры. Эти качества родителей счастливо проявились в их сыне — замечательном театральном, эстрадном и киноактере, незабвенном Андрее Миронове.
Деятельность А. С. Менакера не ограничивалась актерской профессией. Фактически он был и директором, и худруком этого мини-театра, неутомимым «собирателем» авторов и режиссеров, композиторов и художников. Для «Театра двух актеров» были характерны гротеск, сатирическая гипербола, яркая эстрадная форма, органически сплавленная с глубоким психологизмом. И авторы у них были первоклассные: Владимир Дыховичный и Морис Слободской, Борис Ласкин, Григорий Горин, Леонид Зорин.
В Московском театре эстрады существовали и три молодежных коллектива.
В студии «Юность» собрались молодые исполнители различных жанров, которые вскоре стали известными: конферансье Вадим Реутов и Владимир Ухин, куплетист и фельетонист Михаил Ножкин, музыкант Давид Тухманов. В дальнейшем, когда студия распалась, каждый из них пошел своим путем в искусстве: В. Реутов стал эстрадным режиссером, В. Ухин — известным диктором телевидения, М. Ножкин — известным автором и киноактером, а песни Д. Тухманова запела вся страна (и среди них знаменитый «День Победы»). Но и тогда, когда их возраст соответствовал названию студии, они были творчески интересными людьми.
Существовал и коллектив «Комсомольский патруль», душой которого были Борис Владимиров и Вадим Тонков. В их спектаклях в разное время принимали участие В. Деранков и Т. Бестаева. Основой репертуара были злободневные сатирические сценки, эпизоды и фельетоны, посвященные молодежной теме.
В. Тонков и Б. Владимиров играли тогда самые различные роли и делали это, надо сказать, отлично. Я их знал еще по ГИТИСу, где мы учились в одно время — Вадим на актерском, а Борис на режиссерском факультете (у Ю. А. Завадского). Прославились они позже, когда стали «бабками» — масками комических старух — Авдотьей Никитишной и Вероникой Маврикиевной. А начало этим маскам положил фельетон Виктора Ардова «На футболе», где Владимиров впервые появился в образе Авдотьи Никитишны. Было это в 1961 году.
О третьем молодежном коллективе — Новом Московском театре миниатюр — надо сказать особо. Это был коллектив со своим неповторимым творческим почерком.
Его создатель и художественный руководитель — талантливый писатель-сатирик Владимир Поляков — прошел прекрасную школу у А. И. Райкина, для которого написал ряд программ и миниатюр. В эстраде он уже многое знал и умел. Он отказался от звезд, собрал молодых актеров, окончивших театральные вузы, и осенью 1959 года Театр миниатюр открылся спектаклем «Итак, мы начинаем!».
Владимир Поляков привлек к работе и отличных авторов: Михаила Светлова, Юрия Олешу, Владимира Дыховичного, Бориса Ласкина. Кроме того, он сам писал для каждой новой программы театра. Работа у них шла интенсивно: в течение буквально одного-двух сезонов в театре выросла плеяда молодых талантливых артистов: З. Высоковский, В. Корецкий, В. Деранков, Е. Жуков, В. Ширяев, Р. Рудин, Н. Поливанова, Н. Лапшинова.
Выделялась Мария Полбенцева, уникальная актриса, одинаково мастерски владевшая словом, танцем, пантомимой, игравшая на различных музыкальных инструментах. Украшением труппы была Фая Иванова (Ф. Н. Хачатурян), блистательная эстрадная танцовщица, превосходно владевшая и мастерством перевоплощения, и словом. Помимо танцевальных номеров, которые Фая Иванова исполняла с присущим ей блеском и талантливостью, она участвовала в игровых миниатюрах и сценках как актриса разговорных жанров.
И наконец, Марк Захаров. Выпускник ГИТИСа, он был в Московском театре миниатюр и режиссером, и актером, и автором — словом, с первых же шагов успешно проявил себя в этих трех ипостасях, в которых в дальнейшем достиг таких выдающихся успехов. Помню, как в одном из спектаклей Марк исполнял написанный им монолог Остапа Бендера. Мне кажется, что наметки его будущих фильмов по романам Ильфа и Петрова нащупывались им еще в те годы.
Марк Захаров уже тогда выделялся своим стремлением к острому рисунку, умением выстроить алогичную структуру комического, ясным режиссерским замыслом, а также интеллигентностью и врожденной ироничностью. Эти качества развились и окрепли в дальнейшем, когда М. Захаров пришел в драматический театр, кино, на телевидение, где и проявились с такой замечательной силой. Но истоки их — в его эстрадной молодости. Я вижу, что и по сей день тайная приверженность М. Захарова к эстраде сказывается в спектаклях руководимого им «Ленкома», где много песен, пантомим, танцев. В театре «прижилась» и вокально-инструментальная группа — участница многих захаровских спектаклей.
Московский театр миниатюр имел свое лицо, пока им руководил Владимир Поляков. Когда его вынудили уйти и ему на смену пришел Михаил Рапопорт, а на смену Рапопорту еще кто-то, то театра не стало. Нет, номинально он, конечно, остался. Вслед за В. Поляковым ушли М. Захаров, Ф. Иванова, М. Полбенцева, З. Высоковский, В. Корецкий. И к концу 60-х годов это был уже совсем другой коллектив с другими худруками, но без своего лица. Происходило все это уже после того, как Театр миниатюр вышел из состава Московского театра эстрады.
Как правило, премьеры всех этих четырех коллективов готовились в недрах Московского театра эстрады, и в их работе мне приходилось принимать посильное участие. Кроме этого, на нашей сцене постоянно ставились другие спектакли и концерты. Были и обязательные «дежурные блюда» — открытие летнего сезона в театре сада «Эрмитаж» — нашем филиале.
Программы, которые шли в летнем «Эрмитаже», выдерживались в традиционном тогдашнем стиле. Это был обязательный «набор»: известные мастера с готовыми, в основном уже знакомыми номерами, но бывало, что и с новыми. И происходило парадоксальное — силы собирались «звездные», а дорогостоящие спектакли (режиссеры Александр Дунаев, Лев Рудник) успеха не имели. Появлялись критические статьи в газетах, руководство театра постоянно ругали в обоих министерствах (союзном и республиканском), на совещаниях, посвященных состоянию дел на эстраде. Тогда я не мог еще доказать, что эта форма — «сборная» команда мастеров, собранная по принципу «свистать всех наверх», — в начале 50-х годов имевшая успех, в 60-е уже изжила себя, что необходимо дать дорогу новым формам эстрадных представлений.
На сцене Московского театра эстрады и мне довелось поставить несколько театрализованных программ, в том числе и спектакль-концерт оригинального жанра. Но главными своими работами того периода считаю два спектакля — «Пришедший в завтра» и «Утром после самоубийства». (О них — в следующей главе.)
И хотя в истории рождения спектаклей было мало радости и много безобразий, я счастлив, что поставил их. А «Пришедший в завтра» — вообще самый любимый из всего сделанного мной: спектаклей, фильмов, театрализованных концертов, массовых празднеств.
То, что бушевало, кипело, сжигало сердца 30 лет назад, сегодня стало архаикой. Но ведь пройдет еще 30 лет, и новыми поколениями XXI века сегодняшние наши страдания и радости тоже будут восприниматься как «преданья старины глубокой». Но от этого наши проблемы проще не стали, и легче мы их не переживаем. Каждое время сложно по-своему. И как сказал когда-то поэт:
Чем событья интересней для историка,
Тем для современника печальней.
...Много лет прошло, а все помнится и не дает мне покоя эта история. В ней отразились тогдашние беды эстрады. И многие из них, увы, живы до сих пор. Боюсь, что они останутся и после нас...
Поэты на Берсеневской
Конец 50-х — начало 60-х годов без преувеличения можно назвать временем молодых, напоенным их романтическим духом. Не случайно именно тогда появилась целая плеяда талантливых поэтов, которым суждено было встать в первый ряд нашей литературы: Евгений Евтушенко, Андрей Вознесенский, Роберт Рождественский, Белла Ахмадулина.
В те же годы возник «Современник», знаменуя своим появлением нарождавшуюся новую волну в театральном искусстве.
В кино, прорвав многочисленные заслоны, пришли Андрей Тарковский, Василий Шукшин, Марлен Хуциев, Эльдар Рязанов, Элем Климов — блистательные режиссеры, своим творчеством обновившие наш кинематограф.
В эти годы значительно помолодела и эстрада: в нее буквально ворвался отряд талантливых артистов, и узкий круг прежних мастеров, ревниво охраняемый многие годы, стал стремительно расширяться. Эстрада «задышала», стала интереснее, разнообразнее.
В этом процессе был «виновен» и я, введя конкурсную систему, еще работая в ВГКО, что способствовало притоку свежих сил. Придя в Московский театр эстрады, я продолжал эту линию.
Поставив несколько «проходных» программ, я готовился к большому спектаклю, который хотел осуществить в основном силами молодых. У меня давно была мечта поставить спектакль о Маяковском, чтобы его поэзия, такая разная и неожиданная, такая пронзительная, стала бы основой, главной темой.
Просмотрев много материала, я остановился на пьесе А. Липовского «Во весь голос». Там для меня было главное — Маяковский в борьбе, в бурном процессе, в отстаивании своих позиций.
Но, написанная для драматического театра, пьеса требовала переделки. И мы с Липовским приступили к написанию нового варианта.
Форма спектакля определилась сразу — спектакль-диспут, потому что именно он наиболее подходил к творчеству Маяковского, обращенному непосредственно к сердцам людей, их совести, зовущему отстаивать свою позицию, бороться. В спектакле-диспуте была возможность построить действие на споре, на столкновении различных точек зрения, на постоянном напряжении.
Маяковский патетичен — и спектакль мыслился как патетический разговор о будущем. Но Маяковский и сатиричен — он в ряду великих сатириков: Зощенко, Булгакова.
Спектакль-диспут давал возможность построить действие «свободно и раскованно», максимально вовлекая в него зрительный зал. При таком решении вспоминались легендарный зал Политехнического и вечера поэзии Маяковского в нем, каждый раз превращавшиеся в горячие споры: равнодушных не было — поэта или пламенно любили, или так же неистово ненавидели.
И спектакль мне мечталось сделать как бы продолжением тех диспутов — взрывным, не убаюкивающим зрителя, а будоражащим его, заставляющим занимать позицию «за» или «против».
Происходившее на сцене должно было дополняться реакцией актеров, размещенных в различных местах зрительного зала, акробатикой под самым потолком-куполом, демонстрацией полиэкранного кино несколькими проекторами.
А начало спектакля-феерии было задумано просто: на авансцену выходила девушка и сообщала, что в гости к нам приехали молодые поэты. Они начинали читать свои стихи. А потом на сцену к ним выходил сам Маяковский.
Пять больших экранов, то появляющихся, то поднимающихся и исчезающих, были смонтированы на сцене, в порталах и над сценой. Когда они все опускались, их серебристый тон и стремительные линии давали ощущение то ли звездолета, то ли фантастической «машины времени».
На экраны проецировались кинокадры — на один, на три или на все пять. (Тогда, в 1962-м, полиэкран производил колоссальное впечатление.) Кинодействие переносилось с экрана на экран, продолжалось на сцене, вновь возвращалось на экраны. Динамику дополняли три сценических круга, находившихся один в другом (точнее, круг и два кольца). Круги все время были в движении и в сочетании с полиэкраном создавали эффект стремительно развивающегося действия.
В кульминационных сценах включались дополнительно 12 проекторов, давая изображение на высокий сферический потолок зала.

И. Смирнова и Р. Юрьев в сцене из спектакля «Пришедший в завтра»

Л. В. Маяковская — сестра поэта — была нашим консультантом

Р. Филиппов в роли Маяковского

М. Ножкин в спектакле «Пришедший в завтра»
В сценарии было много стихов Маяковского — он был весь буквально пронизан его поэзией. Она представлялась мне в самых разных решениях: и как художественное чтение, и как ввод к номерам. И наконец, на темы стихотворений был придуман целый ряд номеров в различных эстрадных жанрах. Например, стихотворно-пантомимным был «Рассказ литейщика Ивана Козырева о вселении в новую квартиру». Куплетным номером с танцами стал «Хулиган».
Все пантомимы начинались с того, что изображение словно оживало, воплощаясь в конкретный образ на сцене. Исполнителем этих номеров был один актер — совсем еще молодой тогда Михаил Ножкин.
Но главным номером оригинального жанра, с участием многих исполнителей, были «Прозаседавшиеся».
Он начинался со стихов, которые читал Поэт:
Чуть ночь превратится в рассвет,
вижу каждый день я:
кто в глав,
кто в ком,
кто в полит,
кто в просвет,
расходится народ в учрежденья.
На экране возникала известная карикатура Кукрыниксов, и разворачивалось действие...
В сценарии было записано:
«...Лучи высвечивают пантомиму «Прозаседавшиеся». Они спят за столом, вкусно и громоподобно храпя. Начальник, сидящий во главе стола, проснулся, рявкнул. Все проснулись, вскочили. Работа началась...»
Основным приемом в этой пантомиме был перевод метафор в действие: цифры брались «с потолка», председатель «давал накачку» подчиненным при помощи пожарного насоса, а докладчиками стали свистуны — «свистит», когда говорят про врущего... А в разгар номера вдруг приходили в движение три сценических круга, и «прозаседавшиеся» стремительно разъезжались в разные стороны — «дело расползалось», как говорили.
В финале эпизода громко звучал голос Поэта, уничтожающе итожа все, только что промелькнувшее, как в гротесковом кошмаре:
Мечтой встречаю рассвет ранний:
«О, хотя бы
еще
одно заседание
относительно искоренения всех заседаний!»
Когда вышел спектакль, во многих рецензиях отмечали именно номер «Прозаседавшиеся».
* * *
О существовании в Москве уникальной сцены с тремя кругами в театре на Берсеневской набережной все давным-давно позабыли. Более того, круги так забили, что их невозможно было разглядеть под досками. Я обнаружил тройной круг, только спустившись в трюм сцены, где, по счастью, сохранился механизм, приводящий все в движение.
Однажды в театр заехал замечательный ленинградский режиссер Н. П. Акимов, с которым мы дружили. Зная его страсть к постановочным неожиданностям, я повел его в трюм и открыл эту «тайну театра». Он был в восхищении и так загорелся, что обещал только из-за этих кругов поставить спектакль в Московском театре эстрады.
Но пока круги были забиты досками, и прежде чем их открыли, прошло времени немало. Драться за это пришлось долго: никто, как всегда, не хотел для себя лишних хлопот. Дирекция, постановочная часть, даже пожарные, какие-то комиссии, зачастившие в театр, чтобы не пускать круги, — все это долго пришлось «переламывать». Наконец со сцены сняли настил, включили механизм, и круги поплыли по сцене. И так долго пришлось преодолевать чужое безделье и фантастическое нежелание что-либо делать, что пуск кругов показался чем-то сказочным. Эта история была лишь началом безобразий, сопутствовавших постановке «Пришедшего в завтра».
* * *
...Службы Театра эстрады, обленившиеся до предела (ибо сборные концерты почти не требовали от них никаких усилий), надо было менять. Они не только ничего не хотели делать, они ничего и не умели. Особенно выделялся своим наглым бездельем заведующий постановочной частью — человек, от которого многое зависит на сцене. Он демонстративно не желал утруждать себя, ибо находился в приятельских отношениях с дирекцией театра. Более того — каждый день после 12-ти он напивался. То, что он был пьян, — не было сомнения: лыка не вязал, на ногах держался с трудом. Но — чудо! — от него не пахло водкой. Вот поди ж ты — и бороться не с чем, ибо причина — не доказана. Однажды я, доведенный до крайности, вызвал медицинскую экспертизу, и она наконец-то установила причину: сообразительный алкаш «балдел» с помощью... водочных клизм. Убивал сразу двух зайцев — и удовольствие получал, и водкой изо рта не пахло. Я его выгнал, конечно, в тот же день. (Его вернули в театр, когда поняли, что я его вот-вот покину.)
В сценарии, наравне с главной темой, развивалась параллельная линия последних, самых тяжелых, месяцев жизни Маяковского.
Поэт был загнан государственной машиной в тупик, выхода из которого, как он сам понимал, не было. Маяковскому дорого обошлась его сатирическая линия. Давно — еще в начале 20-х годов — он был взят под подозрение, и симптоматичным и грозным предупреждением прозвучали слова Луначарского, сказанные им в 1921 году. Этот выпад первого наркома просвещения сегодня забыт, о нем никто не вспоминает, но его нельзя забывать, ибо это о многом говорит:
«Партия как таковая, коммунистическая партия, которая есть главный кузнец новой жизни, относится холодно и даже враждебно не только к прежним произведениям Маяковского, но и к тем, в которых он выступает трубачом коммунизма»[2].
Это был не просто нравоучительный наркомовский тон. Не просто «красное словцо». То была уже угроза. И не надо было ждать 1937 года, ибо в начале 20-х уже начались политические процессы. Мне всегда казалось, что истоки трагического 14 апреля 1930-го надо искать в начале 20-х. И угрожающая статья Луначарского — один из них.
Поэтому первая часть спектакля-феерии, несмотря на много смешных сатирических сцен, была окрашена трагической нотой. Эта тональность ощущалась и в лирической линии — печальном воображаемом разговоре с Татьяной Яковлевой (слышался только ее дальний голос). Из этой сцены прощания рождалось чудное «Письмо Татьяне Яковлевой»:
...Ты одна мне
ростом вровень,
стань же рядом
с бровью брови,
дай
про этот
важный вечер
рассказать по-человечьи...
Ты не думай,
щурясь просто
из-под выпрямленных дуг.
Иди сюда,
иди на перекресток
моих больших
и неуклюжих рук...
Маяковский рвался в Париж к Татьяне Яковлевой, но его не пустили. Не пустил НКВД. По чьему навету или злой воле — сейчас никто не докажет. Можно только догадываться.
Хотя, впрочем, А. Гладков[3] достаточно откровенно рассказал об этом. По его утверждению, Борис Пастернак говорил: «Квартира Бриков была, в сущности, отделением московской милиции». И дальше: «...когда В. В. влюбился в Париже в Татьяну Яковлеву, сделал ей предложение и должен был снова ехать осенью 1929 года в Париж, ему не дали визу. Возможно, Брики опасались женитьбы Маяковского на эмигрантке и, вероятно, информировали об этом Агранова. На Маяковского этот первый в его жизни отказ в визе произвел страшное впечатление. С его цельностью он не мог понять и примириться с тем, что ему, Маяковскому, не доверяют. Тут начало внутренней драмы, которая и привела его к самоубийству. ...Во вмешательстве Агранова было нечто зловещее. Вероятно, Б. Л. (Пастернак) имел в виду этот эпизод, который, друзья Маяковского знали».
* * *
...А в спектакле звучала проникновенная музыка Шостаковича, и Поэт, прощаясь с нами, читал то четверостишие, которое он приводит (в переделанном виде) в своем последнем письме:
Как говорят —
«инцидент исперчен».
Любовная лодка
разбилась о быт.
Я с жизнью в расчете
и не к чему перечень
взаимных болей,
бед
и обид.
И уходил через весь зал в узком луче света.
А во всю сцену возникали его громадные глаза, пристальные, требовательные, вглядывающиеся в сегодняшний день. (Это проецировался увеличенный во сто крат фрагмент одного из портретов Маяковского.)
Во второй части спектакля поэзия Маяковского приходила в сегодняшний мир, как бы совершая путешествие по всему земному шару, теперь уж как поэтический образ. Рядом с Поэтом возникал хор, помогавший ему найти точное слово, точную рифму.
Вместе со своими стихами он возвращался в Париж, в Америку, в Мексику. И везде оживала его поэзия — поэзия, идущая по миру.
Зрители с Поэтом оказывались и в космосе — его поэма «Летающий пролетарий» давала эту возможность. Главы «Будет» и «Утро» были переведены в пантомимное действие — почти по строчкам. А «Вечер» стал космической любовной сценой.
Сначала Он и Она переговаривались по радио:
— Алло!
Не разбираю имя я...
А!
Это ты!
Привет, любимая!
Еду!
Немедленно!
В пять минут
небо перемахну
во всю длину.
В такую погоду
прекрасно едется.
Жди у
облака —
под Большой Медведицей.
Эта сцена должна была переходить в воздушный полет под куполом зала (высоченный сферический потолок Московского театра эстрады давал эту возможность), а заканчивалась космическим любовным дуэтом на площадке межпланетной станции (при помощи киноэкранов удалось создать эту иллюзию).
...Шел Поэт по земному шару, чтоб в финале воскликнуть:
...Я
земной шар
чуть не весь
обошел, —
и жизнь
хороша,
и жить
хорошо.
Так заканчивалась героическая и сатирическая феерия «Пришедший в завтра».
Спектакль вызвал массу откликов не только среди артистов эстрады и в прессе, но и в министерствах культуры, в общественных организациях. Это был взрыв эмоций — и радостных, и резко негативных. Но таково уже творчество Маяковского: оно конфликтно по сути своей, оно зовет к ответу — кто ты и с кем? И каждый прикоснувшийся к творчеству Маяковского невольно вовлекается в орбиту почти космических вихрей, бушующих вокруг его фантастической по силе и глубине поэзии.
Я счастлив, что прикоснулся в молодые годы к творчеству Поэта. Это дало мне силы и радость на всю жизнь.
Мы очень подружились с Людмилой Владимировной Маяковской. Она была у нас консультантом спектакля, и мы часто встречались с ней — на репетициях в театре или же у нее дома. Жила Людмила Владимировна на Красной Пресне, в переулке у Шмитовского проезда, в той самой квартире, которую обессмертил Маяковский:
Во — ширина!
Высота — во!
Проветрена,
освещена
и согрета.
Все хорошо.
Но больше всего
мне
понравилось —
это...
В столовой у нее стояло большое кресло — «Володино», как Людмила Владимировна называла его. В это кресло она обычно усаживала меня и говорила, что я похож на ее брата, что много общего в манере говорить, смеяться, читать стихи (я тогда знал наизусть чуть ли не всего Маяковского и читал для Людмилы Владимировны у нее дома). Она даже уговаривала меня самого сыграть Маяковского, но я не решился — слишком уж много требовалось для того, чтобы сыграть Поэта.
Людмила Владимировна была человеком чрезвычайно интеллигентным, воспитанным на той российской культуре, от которой нам достались лишь остатки, — подлинной дворянской культуре, идущей от Державина, Жуковского, Пушкина, Лермонтова... Дворянский род Маяковских бережно хранил этот российский дух в своей семье, передавая его детям.
Много узнал я от нее о поэте. Людмила Владимировна первая объяснила мне, что многие из сатирических стихов, взятых в наш спектакль: «Подлиза», «Сплетник», «Ханжа», «Мразь», «Чье рождество?», «Сердечная просьба», «Что такое?», «Кандидат из партии» — по предположениям — фрагменты из поэмы «Плохо», которую Маяковский стал писать вслед за поэмой «Хорошо». Тогда пресса об этом помалкивала, и для меня рассказ Людмилы Владимировны был подлинным открытием.
...Старшая сестра сыграла большую роль в формировании мировоззрения мальчика Володи. В 1905 году она вернулась из Москвы в Кутаиси, привезя нелегальную литературу. По странному совпадению это оказались революционные прокламации, написанные стихами. В своей автобиографии Маяковский писал, что уже с детства «стихи и революция как-то объединились в голове».
Однажды я рискнул спросить у Людмилы Владимировны о последних днях жизни брата. Глаза ее вдруг запылали, и она резко ответила: «Все думают, что 1937 год начался в 1937-м, а начало его — в 1930-м. И первой жертвой стал Володя!»
Тогда еще не появились, как ныне, намеки в прессе, что смерть Маяковского — не самоубийство, а убийство, и ответ Людмилы Владимировны был для меня неожидан и страшен.
Из ее рассказов стала выстраиваться цепь каких-то странных случайностей, наводящих на невероятные выводы. Например, в 1928 году Маяковский рассказывал в семье, что поздним вечером в Крыму в него стреляли из-за кустов. После этого случая один из особо приближенных к Лиле Брик — Я. Агранов, заместитель тогдашнего наркома внутренних дел Г. Ягоды — подарил ему пистолет. «Для самообороны». Этот пистолет лежал на полу рядом с мертвым Маяковским, и по официальной версии именно из него поэт и застрелился.
Накануне 14 апреля он еще договаривался с кем-то о выступлении, занимался делами.
И необъяснимо — предсмертное письмо написано 12 апреля, самоубийство случилось 14-го. Что ж эти два дня? Как их объяснить?
А фраза из предсмертного письма: «У меня выходов нет»? А фраза, сказанная поэту Аграновым на его вопрос, почему ему отказано в парижской визе — что-то вроде «плохи твои дела»?
И почему, когда в Лубянском проезде раздался выстрел в квартире Маяковского, то через несколько минут она была уже оцеплена?
Так же, в считанные минуты, оцепили весь дом и двор и никого к Маяковскому не допускали. Будто кто-то знал, что именно в этот день, в этот час и даже именно в эти минуты раздастся выстрел...
Сопоставляя шквал злобной травли поэта, в последние годы жизни выдавшего убийственный сатирический залп — «Клопа», «Баню», киносценарий «Октябрюхов и Декабрюхов», сатирические стихи, поэму «Плохо», — планомерно направляемый, с высказыванием наркома просвещения, что партия «холодно и даже враждебно» относится к творчеству Маяковского, поневоле приходишь к выводу — Маяковского где-то на очень высоких командных «этажах» решили убрать: сначала убить его творчество, уничтожить как поэта, «а там видно будет...» Пресса объявила его чуть ли не врагом народа, РАППовские «тузы» — Авербах, Фадеев, Либединский — грызли его насмерть, НКВД сделал его «невыездным». На него устроили покушение. Портрет из журнала, поздравлявшего поэта с 20-летним юбилеем, был изъят в самый последний момент...
Под страшным секретом поведала мне Людмила Владимировна о фотографии, снятой спецслужбой сразу после несчастья, которую сам Агранов показывал потом друзьям поэта. Маяковский лежал, раскинувшись; в широко раскрытых глазах застыл ужас; словно в крике открыт рот — все говорило о страшной реакции на что-то увиденное, что испугало поэта в последние секунды жизни. Историю с фотографией подтвердил В. Катаев много лет спустя.
Застрелился поэт сам, или его убили агенты НКВД — теперь уже, думаю, не выяснить. Выход у него был один — смерть.
* * *
Одновременно с написанием сценария я собирал постановочную группу и исполнителей. Художниками я позвал А. Тарасова и В. Мамонтова, балетмейстерами — Е. Менее и И. Слуцкера. Режиссером номеров оригинального жанра стал С. Каштелян. Киноматериал вместе со мной монтировал Ю. Чулюкин — режиссер знаменитых фильмов «Неподдающиеся» и «Девчата».
Актерский состав удалось собрать сильный. Но главной проблемой были поиски исполнителя роли Маяковского. Я пересмотрел и переслушал многих тогдашних чтецов. Они хорошо читали стихи, но оказались беспомощными в игровых эпизодах. Уже шли репетиции, а Маяковского все еще не было. То есть был, конечно, но из второго состава. Но счастливый день настал, и он появился сам — совсем молодой артист Роман Филиппов, недавно окончивший училище им. Щепкина.
Ему тогда было очень нелегко: жить негде и не на что — денег эстрада почти не платила. Одно время Роман жил у нас дома. Он был настолько деликатен, что его, огромного, не было видно и слышно в квартире. Роман вообще был человеком чрезвычайно воспитанным, интеллигентным и добрым. Ему было 24 года, он был строен, высоченного роста, с громоподобным голосом. И прекрасно читал Маяковского. Роман и стал главным нашим открытием: после спектакля он приобрел в Москве известность.
Когда Людмила Владимировна Маяковская на одной из репетиций услышала, как Рома читал стихи Маяковского, она вдруг напружинилась, закрыла глаза, долго сидела неподвижно. Мы сидели рядом и не прерывали ее молчания. После долгой паузы она сказала тихо: «Володя...»
Потом, когда я был дома у Людмилы Владимировны, она сама вернулась к этому эпизоду. «Филиппов не похож лицом на Володю — брат был острее. Но голос, манера читать — просто Володя, живой Володя. Если слушать — удивительное совпадение!»
Я ставил спектакль долго — около года. Огромное количество номеров, которые надо было поставить, синхронный монтаж километров кинопленки, сведение воедино киноряда с действием на сцене, напряженная работа с актерами, параллельно с репетициями уточнение текста, репетиции с Московским хором и оркестром Московского театра эстрады — на все ушло много времени. Кроме того, спектакль неоднократно закрывало руководство ВГКО, в ведении которого тогда находился театр.
Закрывали по разным причинам. Сначала — под предлогом дороговизны. И в самом деле, спектакль обошелся недешево. Постоянной труппы в Московском театре эстрады не было, все приглашенные актеры были на договорах. Пришлось ходить, уговаривать, убеждать. Тогда перестали оплачивать актерам так называемые репетиционные. Все было рассчитано точно: актеры должны были разбежаться, ибо никто из них не обязан работать бесплатно. Но случилось чудо: актеры остались. В джунглях театрально-эстрадной Москвы растворилось всего несколько человек.
Мне, конечно, повезло — в спектакль пришли люди талантливые и честные: Р. Филиппов, М. Ножкин, С. Вечеслов, П. Березов, Р. Юрьев, Ю. Хрижановский, И. Смирнова, П. Андрюшинас, Б. Амарантов, В. Кац, В. Семенов, вся постановочная группа... Они остались и увлеченно (но бесплатно) продолжали работать.
Когда нас погнали со сцены (там по распоряжению ВГКО спешно стали готовить «дежурные эстрадные блюда» — по три в неделю), я использовал под репетиции свой просторный кабинет. Мы не остановились — продолжали репетировать везде, где можно: в фойе театра, в вестибюле, в гримерных... Больше двух месяцев продолжалась «подпольная» работа, пока наконец не состоялась коллегия Министерства культуры РСФСР и нас снова «открыли».
«Старики» были против спектакля. Они считали, что спектакль нарушает традиции, ломая понятие номера как основы эстрадного искусства. Особенно бушевал Н. П. Смирнов-Сокольский. Ему принадлежала крылатая фраза «Его величество номер», и он яростно отстаивал свою формулировку, громогласно заявляя, что я замахнулся на святая святых. Я уверен — в позиции эстрадных «стариков» не было никакого злого умысла. Они искренне считали, что я нарушаю то, что создано ими многолетним и нелегким трудом.
Я же менее всего думал о том, как бы мне разрушить традиции. Просто я был уверен — большинство эстрадных и цирковых жанров может быть подчинено единому сквозному действию. Это и было главной причиной нашего расхождения.
...Итак, спектакль удалось открыть во второй раз. Но «оппоненты» не отступали. Начался новый виток нашего «убиения» — теперь по линии идейной. Спектакль был уже полностью готов, и его необходимо было выпускать на зрителя. Но снова помеха — серия изнурительных просмотров с обсуждением, где нас подвергали «артиллерийскому обстрелу».
Список принимавших участие в обсуждении составлялся заранее; заранее, судя по всему, раздавались и темы. Один известный чтец, специалист по Маяковскому, заявил: «Зачем тратить такие деньги на спектакль, когда тот же текст Маяковского можно услышать в моем исполнении и значительно дешевле...» Эстрада «крыла» нас за нарушение жанровых границ. Договорились однажды до того, что спектакль вообще никакого отношения к эстраде не имеет (в нем было около 20 эстрадных номеров). Били и за излишнюю сатиричность, даже... «пришивали» издевательство над нашей прекрасной советской действительностью.
* * *
В чем была причина этой возни вокруг спектакля? Думаю, кроме борьбы личных интересов и амбиций, одной из причин было то, что он несколько «забежал вперед». Тогда, в начале 60-х годов, еще не пришло время целостных эстрадных спектаклей, театрализованных концертов, которые стали обычными в 70-е — 80-е годы.
Тридцать лет назад эстрадный концерт или представление мыслилось главным образом как своеобразное соревнование солистов или коллективов. Они могли и раньше называться театрализованными спектаклями, но часто за этим оказывались обыкновенные «сборные» концерты.
...Моя дальнейшая режиссерская судьба сложилась так, что мне довелось ставить спектакли и концерты во многих залах, театрах и в нашей стране, и за рубежом. Так что я с полным правом могу утверждать, что опыт у меня большой. Мне довелось общаться и работать с руководителями различных уровней, со множеством дирекций и администраций.
Были администрации умные, даже — талантливые, помогавшие в творчестве, деятельно способствовавшие общему успеху, прекрасно понимая, что успех этот — общий.
Бывали и другие — вполне равнодушные к делу, формально выполнявшие свои обязанности. Абсолютно не помогавшие. Но, что тоже немаловажно, и не мешавшие осуществить задуманное.
Бывали и мрачные административные сообщества, которыми двигали злоба и одно желание — мешать во что бы то ни стало. Чем объяснить это — не знаю. Очевидно, такими людьми движет осознание своей ущербности и болезненная зависть ко всем, кто может что-то делать, кто является профессионалом в своем деле.
Но встреча с управлением ВГКО и тогдашней дирекцией Театра эстрады ни в какие определения не вмещается. Ничего страшнее по тупоумию, бескультурью, злости и патологическому стремлению давить и душить все новое и непривычное в своей режиссерской практике я не встречал.
По сравнению с ними даже директор Московского академического музыкального театра, бывший подполковник госбезопасности, казался мне светочем разума...
Дискуссию вокруг спектакля руководство ВГКО искусственно подогревало. Особенно старался мой преемник на посту главного режиссера — назову его П.
Трудно определить, кем он был по профессии — актером, режиссером или же администратором — он бывал и тем, и другим, и третьим. В числе его режиссерских работ были и постановки в коллективе костромских лилипутов (коллектива-ветерана — его поминал еще М. Булгаков в «Театральном романе»). По поводу режиссуры П. с его костромскими лилипутами в эстрадных кругах злословили, что это показатель творческого роста главрежа...
Судьба столкнула меня с ним незадолго до истории с «Пришедшим в завтра». В 1962 году в Кремлевском Дворце съездов готовился большой театрализованный концерт, в котором принимали участие коллективы со всей России. Режиссером был П. После первого прогона, за три дня до концерта, разразился скандал, и П. «вылетел». Меня срочно вызвали в КДС, и за два дня мне пришлось переделывать весь концерт. Но П. пожалели (он уже тогда был в солидном возрасте), и фамилия его осталась в программе. Но здороваться со мной он перестал — вместо благодарности за то, что я его спас. И от этого человека зависела в известном смысле судьба «Пришедшего в завтра»!
...В этой постоянной драке с ВГКО я совершенно осатанел. И решился на шаг отчаянный и — ненужный.
В работе над спектаклем принимал участие И. Шмидт — талантливый график-карикатурист. Он делал плакаты в стиле Маяковского — проекции перед стихотворениями-сценами «Подхалим», «Сплетник» и «Бюрократ». Я попросил его на одном из заседаний ВГКО зарисовать профили руководства этой милой организации. Он сделал это быстро и хорошо. На очередном просмотре руководители ВГКО, приехавшие гробить спектакль, узрели на экранах в громадных изображениях не очень отягощенных думой лиц… себя.
Разразился скандал. Звонили из ЦК, от министра — «группа товарищей» успела настучать везде. Проекции для стихотворений-сцен пришлось заменить. Взамен я получил оголтело громящих наш спектакль маленьких (и от этого еще более злых) руководителей.
Конечно, мне не надо было этого делать: мальчишество какое-то. Но уж больно хотелось сказать во всеуслышание, кто есть кто.
Шум вокруг спектакля напугал Отдел культуры ЦК и оба министерства культуры. Они пришли к соломонову решению: пусть эстрада сама решает — быть или не быть спектаклю. И поручили последнее обсуждение провести великому артисту — Леониду Осиповичу Утесову. За ним было последнее слово.
Просмотр прошел при полном зале — и с большим успехом. Зрителям было наплевать на всю закулисную возню — они непосредственно воспринимали то, что видели на сцене, и воспринимали горячо.
Обсуждение после спектакля неожиданно для всех оказалось коротким. Утесов встал и сказал:
— Я всю жизнь на эстраде занимался совсем иным. Но то, что я сегодня увидел, — убеждает. Я голосую «за»!
Что тут началось! Утесову устроили овацию и участники спектакля (их было более ста), и артисты эстрады, и молодые поэты — наши ярые защитники.
Мизансцена мгновенно изменилась. П., который до просмотра что-то нашептывал Утесову, кинулся к начальству. Судя по всему, там он «получил втык». Стал что-то нервно доказывать — его оборвали, дали «пэу».
Когда все закончилось, я подошел к Утесову, поблагодарил его за поддержку в самый критический момент. Леонид Осипович долго смотрел на меня, потом сказал:
— Мне про вас разное говорили. Но я рад, что вы победили. Поздравляю.
В тот день Леонид Осипович спас нас. И думаю — чем больше его «накручивали», тем яснее становилась ему истинная причина «драки» вокруг нашего спектакля.
Премьера состоялась через несколько дней. Ее продолжением стал поэтический диспут, возникший в фойе театра, у бюста Маяковского. А около полуночи все решили идти к памятнику поэта на площадь его имени. Большая толпа — и исполнители, и молодые поэты, и зрители — с цветами отправились в центр Москвы к Маяковскому. Там до утра читали стихи, пели песни. Удивительная то была ночь — на всю жизнь одна!
Пишу эти строки, и самому не верится... Неужели это в самом деле могло быть — вот такое бескорыстное увлечение, бессонные ночи ранней московской весной, поэзия, молодость, влюбленность?..
Да, это было. И было не только в другом времени. Сегодня мне кажется — в другой стране...
* * *
На представлениях «Пришедшего в завтра» время от времени появлялись «эмиссары», докладывавшие «наверх», какая обстановка в зале. Потом выяснилось, что их больше интересовало не как идет спектакль, а поэтические споры в фойе театра. Их начинали участвовавшие в спектакле молодые поэты, а затем включались зрители. Нередко, если после спектакля часть зрителей не расходилась, все шли на площадь Маяковского и там, у памятника, продолжали диспут. До поздней ночи слышались стихи, песни бардов.
Импровизированные поэтические вечера «у Маяковского» вскоре стали традицией. Потом там стали звучать стихи все более откровенные и резкие. Кончилось тем, что «в один прекрасный вечер» подъехали крытые машины, крепкие мальчики в штатском похватали любителей стихов и увезли. У памятника установили милицейский пост... Поэтическим вечерам пришел конец.
А по стране вовсю шла хрущевская «оттепель», о которой мы сегодня ностальгически вздыхаем...
На один из наших спектаклей пришел Назым Хикмет. Он дружил с Маяковским, любил его. Маяковский тоже по-доброму относился к молодому тогда турецкому поэту, даже приглашал его выступать в своих вечерах. Перед первым выступлением Маяковский сказал волнующемуся Назыму что-то вроде: «Турок, не бойся, тебя все равно не поймут».
Назым Хикмет пришел к нам за кулисы, растроганно благодарил: «Вы вернули меня в мою молодость!» Беседовал с исполнителями, особенно, с Романом Филипповым, восторгался тем, как он читает Маяковского. Узнав о трудностях, о том, что творилось вокруг спектакля, Хикмет усмехнулся, сказав, что весь Маяковский — конфликтен. «У него и сегодня немало врагов», — добавил поэт.
Хикмет был красив и благороден — высокий, сильный, с ясным взглядом выразительнейших глаз. В нем самом что-то напоминало Маяковского.
Пришло лето, и Театр эстрады закрылся на ремонт. Выступления переносились в старый деревянный театр в саду «Эрмитаж». Наш спектакль играть там было нельзя — без трех сценических кругов, без многочисленных экранов. Договорились в ВГКО и в Министерстве культуры, что прекратим спектакль до осени, чтобы вновь вернуться с «Пришедшим в завтра» на сцену на Берсеневской набережной.
Но летом ВГКО не дремало. По его доносу в театр нагрянула комиссия — проверять, почему спектакль сожрал уйму денег. Во всем, естественно, виноват оказался главный режиссер.
Проверку проводили фундаментально: вызывали всех, кто имел отношение к спектаклю, — авторов, режиссеров, исполнителей, постановочную часть. Отыскали даже зрителей спектакля. Все записывалось в протокол, а затем давали прочитать и подписать. Словом, настоящее следствие. «Тягали» и меня. Но не в театр, где опрашивали других, а в старинные палаты в Большом Харитоньевском, в таинственное учреждение. Там, в комнате со сводами, меня усаживали на стул, направляли на меня настольные лампы, и шел настоящий перекрестный допрос.
Отвечая на вопросы, я не мог сдержаться: грубил, обрывал, пытаясь втолковать своим невозмутимым сдержанным мучителям, что культура сама себя не делает, что ее надо создавать, что для этого необходимы деньги, и немалые. Но вежливые люди в серых костюмах спокойно и методично гнули свое.
Весь этот отлично отлаженный механизм крутился по каким-то своим законам. В результате проверки составили смету расходов по спектаклю, куда включили даже... электроэнергию и воду, потребленную всем театром за целый год! На последнем допросе меня предупредили, чтобы я даже и не заикался о возобновлении спектакля...
ВГКО выкинуло еще один трюк — именно на всю осень отослали в гастроли актеров, занятых в спектакле: кого за рубеж, кого по стране подальше — в Сибирь, на Дальний Восток, — откуда вернуть их не было никакой возможности. Этот удар, пожалуй, был самым верным из всех — спектакль было некому играть. Решили отложить выступления до октябрьских праздников, а затем — на конец ноября.
Но тут подошло 19 ноября 1962 г. Роковая дата в моей жизни — скандал с Хрущевым, обругавшим концерт в Кремле, поставленный мной. (Об этом — в главе «Отчего у генсека болел живот».)
Наступил Новый, 1963 год, а спектакля не было видно даже в отдаленной перспективе... Он исчез. Навсегда. Но фрагментам из него суждено было возродиться. Правда, в другом театре и в другом спектакле.
Когда Ю. Любимов ставил в театре на Таганке «Десять дней, которые потрясли мир», он пригласил художника и режиссера оригинального жанра, которые работали со мной над «Пришедшим в завтра». Ю. Любимов, насколько я знаю, нашего спектакля не видел. И все, что привнесли в его спектакль художник и мой сорежиссер (например, пантомима «Прозаседавшиеся» превратилась в пантомиму «Заседание Временного правительства» и т. д.), — то, что запомнилось им из моего спектакля — пусть останется на их совести.
Наивно звучит, но хочется верить в лучшее.
Спектакль-феерия все откладывался и откладывался. Больше ждать я не мог и приступил к новой постановке. Но сначала — небольшая предыстория.
С осени 1960 года еще в старом здании Театра эстрады я стал проводить творческие встречи поэтов. Мне казалось символичным, что здесь, совсем рядом, на площади стоит Маяковский, и его младшие собратья пришли к нему в гости. Собирались обычно в субботу, в 4 часа, — Михаил Светлов, Лев Ошанин и совсем молодые Евгений Евтушенко, Андрей Вознесенский, Роберт Рождественский.
Пробиться на эти встречи было невозможно — успех они имели огромный. Тогда только начиналась эта мода — читать с эстрады свои стихи. Точнее — вспоминалась давно забытая традиция русских поэтов: в 20-е годы В. Маяковский, С. Есенин, другие поэты постоянно устраивали вечера поэзии.
В наших поэтических встречах наибольший успех выпадал на долю молодых поэтов: они уже стали властителями дум. Народ к нам валом валил — прекрасная интеллигентная публика: ученые, артисты, студенты. Помню, как на концерте Андрея Вознесенского в первом ряду сидел Б. Н. Ливанов и с изумлением на своем выразительном лице слушал поэта и горячо аплодировал после каждого стихотворения. А он, сбежав со сцены разгоряченный, пылкий — зал грохотал, крича восторженно ему вслед, — кинулся ко мне, вручил только что вышедшую «Параболу», надписав ее: «Милому Акиму Георгиевичу — с любовью огромной Андрей» (это был, конечно, поэтический порыв — мы только за час до этого познакомились), и тут же кинулся обратно на сцену, куда его настойчиво требовал зал.
С Робертом Рождественским мы стали общаться с тех дней, а прошло время — и оказались соавторами, написав либретто оперы «Голый король» для Т. Н. Хренникова.
Поэтические вечера в Театре эстрады были прекрасны — это было ясно по тому отклику, который они нашли у москвичей. И еще тогда запала мне мысль сделать спектакль, целиком построенный на стихах и музыке. Но время шло, а материала я не находил.
А потом он пришел в руки сам: в одном из журналов была напечатана драматическая поэма Николая Доризо «Утром после самоубийства». Мне она показалась очень подходящей для чтецко-музыкального спектакля. (Поиски А. Закушняка и В. Яхонтова в этом жанре очень интересовали меня.)
Мы встретились с Доризо, и поэт сам прочел свою поэму. Я поразился тому, как он читал — эмоционально, точно по мысли, безо всяких поэтических подвываний и звукового украшательства: сказывалось его актерское прошлое. Меня тогда осенило — а что, если в спектакль войдет сам автор, читающий свои стихи, — некая новая форма спектакля-исповеди... Во время чтения я уже точно решил, что поставлю драматическую поэму, и одним из главных ее персонажей станет сам Николай Доризо. Когда я сказал ему об этом, он был ошарашен — как? зачем? да видано ли — живой автор в пьесе?
Я не стал спорить, будучи уверен, что все равно мы придем к этому решению.
Драматическая поэма затрагивала одну из самых больных тем — судьбу репрессированного человека, его место в жизни, к которой он вернулся, чудом уцелев в кошмарной мясорубке сталинских лагерей.
И другие важные темы поднимал поэт: об отношениях между людьми, о честности, правде, любви. И — о творчестве. Это была именно поэма, а не пьеса, ибо действие в ней строилось достаточно условно. Зато она была насыщена большими монологами, поэтическими раздумьями, лирическими отступлениями. Ее композиция давала возможность построить и спектакль в манере, освобожденной от быта и мелочей, от повседневности, от мелкого правдоподобия.
В известной мере в поэтическом театре воссоздается жизнь возвышенная, идеальная. А образный строй поэтического театра опосредованно сопряжен с театром музыкальным и смыкается с ним глубинной своей сущностью. Поэтому я решил сделать поэтически-музыкальный спектакль. Был приглашен композитор Александр Флярковский, который стал писать не просто «музыку к спектаклю», а создавал музыкальную драматургию.
С Флярковским меня связывала давняя дружба. К тому времени, о котором идет речь, у нас уже была написана опера «Дороги дальние», либретто которой сделал я с Л. Дербеневым и Ю. Чулюкиным, в работе был наш детский балет «Солнечный зайчик». (О наших совместных работах Александр Георгиевич написал в своей книге.)
Музыкальное решение спектакля было довольно сложным, ибо был избран неординарный состав исполнителей-музыкантов: два рояля, эстрадно-инструментальный ансамбль, арфы и скрипичный квартет.
Музыка вошла в спектакль и как зримый компонент: в течение всего действия по краям сцены стояли два черных рояля, а в центре, на полукруглом возвышении, — две золотистых арфы; в отдалении сцены находился струнный квартет, напротив — инструментальный ансамбль Бориса Рычкова. У инструментов сидели исполнители, участвуя в действии.
Оформление спектакля художником Александром Тарасовым было предельно лаконичным — от авансцены вглубь, к заднику, шла белая дорога, заканчивавшаяся полукруглым подиумом, на котором стояли арфы; черный контур двери, несколько стульев, контуры мольберта, на роялях два телефона, в углу — кресло с торшером. Вот, собственно, и все. Ничто не должно было мешать главному — стихам и музыке.
В сопостановщики я пригласил Евгению Борисовну Гардт. Она была человеком особенным, незаурядным, о котором, к сожалению, мало где написано. А рассказать о ней необходимо.
Ее ум, несмотря на солидный возраст (Евгении Борисовне было уже за семьдесят), был ясен и остер. Человеком она была предельно откровенным, прямым и добрым. В прошлом актриса, она с молодых лет связала свою жизнь с чтецким жанром. Режиссером она была тонким и умным — об этом с уважением пишет в своих воспоминаниях А. Я. Закушняк. (Закушняк, как известно — создатель чтецкого жанра на нашей эстраде, предтеча Яхонтова.) Е. Б. Гардт была постоянным и бессменным режиссером у него, так же как Е. Е. Попова-Яхонтова у В. Н. Яхонтова.
Несправедливо, что при упоминании о Закушняке забывают о Гардт — друге, жене, советчице выдающегося актера!
И в свои семьдесят с лишним она оставалась красивой — той благородной красотой и изяществом, которые отличали российскую аристократию.
«Княгиня» — звали мы ее за глаза. И к тому были основания: Евгения Борисовна происходила из знаменитой дворянской семьи Энгельгардтов. Много славных людей России были в родстве с ними, в том числе и сам Потемкин (одна из его сестер была замужем за Василием Энгельгардтом). Среди знаменитых предков Евгении Борисовны — и поэт Евгений Баратынский, женатый на Анастасии Энгельгардт. К Евгении Борисовне все, близко знавшие ее, относились как к живому воплощению великой российской культуры; от нее исходило какое-то удивительное очарование, в котором ощущался высокий полет светлой ее души.
Вечерами, по определенным дням, раз в неделю к ней, в старинный деревянный особняк на улице Мясковского, рядом с Арбатом, приходили друзья. «За чашкой чая» постоянно собирались Г. С. Уланова, Ю. А. Завадский, С. Г. Корень... И вечера проходили в высоких разговорах об искусстве, в чтении стихов, в воспоминаниях, в которых звучали имена Станиславского, Луначарского, Немировича-Данченко, Мейерхольда, Вахтангова...
Актеров мы пригласили хороших. Среди чтецов были К. Вахтеров, Н. Николаев, А. Фролов. В состав исполнителей вошла и Майя Булгакова — замечательная киноактриса, которую мне удалось уговорить принять участие в спектакле.
Но самым неожиданным было участие в спектакле Гелены Великановой — нет, не в качестве певицы, а как чтицы и драматической актрисы: она исполняла главную роль — Ольги Шубиной.
Это вызвало много толков на эстраде. Говорили, что это очередные шароевские причуды, авантюра — словом, весь положенный в таких случаях «джентльменский набор». Но я верил в Великанову, и для этого были основания: ведь мы ставили романтическую поэму. А Великанова — певица романтическая. Она всегда пела о любви, о радости, которую несет любовь людям. Некая восторженность исходила и от ее песен, и от нее самой, даже в обыденной жизни. Я верил, что Гелена сможет перешагнуть за рамки своего амплуа. Конечно, она шла на риск — и очень большой. Знаменитая эстрадная певица, которую знали все как прекрасную исполнительницу жанровых и лирических песен, пользующаяся любовью у зрителей, — казалось бы, чего еще надо? Почивай на лаврах!
Но Великанова — человек очень талантливый, а значит — беспокойный. Она стремилась найти иные краски, иные — неизведанные — возможности своего дарования. Мы начали с ней репетировать с ключевой сцены — монолога Ольги. И она, поначалу настороженная (ее можно было понять!), постепенно стала раскрываться, увлекаясь новым амплуа.
И тональность этой сцены определила весь спектакль. Во время репетиции мне стало ясно — пытаться превращать талантливую эстрадную певицу еще в одну драматическую актрису — дело бесперспективное. Великанова должна была остаться Великановой, но — в иных «предлагаемых обстоятельствах».
С одной из репетиций, когда зазвучала музыка, написанная А. Флярковским, а Великанова превосходно сыграла сцену, вся работа уже шла вместе с музыкантами — арфистками и замечательным пианистом-импровизатором Борисом Рычковым.
Драматургическим центром спектакля были телефонные разговоры героев — Ольги и Лаврова. Кульминацией был их второй разговор, где они танцевали воображаемый вальс. Стоя у роялей в противоположных краях сцены, с телефонными трубками в руках, они начинали кружиться в вальсе, постепенно приближаясь друг к другу.
И она начинала негромко напевать. Рождался целый музыкальный эпизод — Вальс.
Звучал голос Великановой, и задумчиво, как в полусне, кружилась в лучах пара. А затем все исчезало, в лучах оставался только пианист, продолжавший играть. Вскоре и он словно растворялся в темном пространстве сцены...
Воображаемый «телефонный вальс» был изящно и строго поставлен С. Г. Каренем — выдающимся танцором, знаменитым Меркуцио из спектакля Большого театра «Ромео и Джульетта».
Финал спектакля. Ольга и Лавров, продолжая свой разговор по телефону, узнают наконец-то друг друга. (Лавров, находясь в гостях у Ольги, звонит ей из другой комнаты, где у Ольгиного отца, крупного адвоката, был еще один телефон.) Ольга вновь начинает печально напевать вальс. И они, повернувшись, смотрят в изумлении друг на друга. В этой короткой сцене Великанова раскрывалась как превосходная актриса.
...Годы прошли, и немалые, — более тридцати лет, — а я не могу забыть, как Великанова, обернувшись, смотрела на Лаврова, понимая, что произошло.
И в интонации: «Ведь вы не танцуете! Боже мой!..»
И потом: «Я здесь, рядом с вами» — было столько разных мыслей: и изумление, и испуг, и радость, и страх, что все это в следующую секунду может исчезнуть, и вместе с тем — надежда на счастье, живущая в сердце каждого из нас...
Была в спектакле еще сцена, которую я запомнил. «Коммуналка», обычный скандал. Вечно пьяная торговая работница Тюрина накидывалась на Веру Павловну, тихую старую московскую интеллигентку. И когда Вера Павловна, которую Тюрина оскорбила, отвечала ей: «Бог с вами!.. Вы грязная женщина. Вы!..» — Тюрина кидалась к ней и грубо толкала, и... Тихо, почти незаметно опускалась Вера Павловна на пол, хотела что-то сказать, но так и застывала на полуслове, полудвижении.
Мы знаем Майю Булгакову по многим фильмам, знаем, какая это глубокая актриса, которая могла в короткой сцене сыграть целую жизнь, и сыграть просто и точно, без всякой аффектации.
Вот и здесь Майя Булгакова в одном только слове «Вы...», одной только интонацией сыграла встречу российской интеллигенции — честной, возвышенной и потому беспомощной — с диким, торжествующим российским же жлобством и хамством, прекрасно знающим всю свою безнаказанность и потому — наглым, и потому — бесшабашно веселым. В этом «Вы...» было и изумление, и растерянность, и — неожиданно — жалость к этому убожеству, тупости и хамству. И все это заключалось в одном-единственном слове — «Вы...».
А луч выхватывал арфы, и рождалась небесная музыка, и звучала она легко и прозрачно, словно говоря нам, что и в том ужасе, в той удручающей грязи, в которой все мы ежедневно барахтаемся, не все безнадежно и черно — есть и в нашей жизни люди, в душе которых горит немеркнущий свет культуры России, свет правды и честности подлинной интеллигенции.
На один из прогонов спектакля Евгения Борисовна Гардт пригласила Галину Сергеевну Уланову. Великая балерина вошла в темный зал, тихо, незаметно села где-то в глубине и сидела там более двух часов.
Прогон шел трудно — с постоянными накладками по вине постановочной части и осветителей, с нервными комментариями по этому поводу режиссеров. Когда все закончилось, тут же в зале мы беседовали с Галиной Сергеевной. Она поддержала идею создания «театра поэзии», с которой я тогда носился. Ей понравилась поэтически-музыкальная атмосфера спектакля. Из исполнителей она выделила Г. Великанову и М. Булгакову, сказав, что они по-настоящему тронули ее.
Возмущаясь непрофессионализмом театральных служб, Уланова заметила, сочувственно глядя на нас, двух режиссеров:
— Я бы не смогла танцевать в такой обстановке. Мне все бы мешало.
Что мы с Гардт могли ответить на это, когда выдерживали ежедневные баталии с полупьяной компанией на сцене Московского театра эстрады, не умеющей и не желающей ничего делать, кроме одного — выпить и закусить? Конечно, Уланова была права — бесчисленное количество накладок на сцене выбивало актеров из нужного состояния, мешало им.
...После репетиции, когда Уланова уехала домой, пожелав нам успеха, мы с Гардт долго оставались в темном зале, сочувствуя друг другу и понимая наше одиночество в этом окружении. Сидели мы, сидели, пока со сцены не раздалась сочная «родная речь» — это ражий завпост, пообедав, созывал свою команду: пора было растаскивать наши декорации «к такой-то...» и готовить сцену к вечернему концерту.
Мы с «княгиней» бежали из зала, где вовсю «бушевала» наша действительность: после разговора с Улановой все это показалось особенно невыносимым.
«Утром после самоубийства» — таким мрачным названием встречала зрителей афиша Московского театра эстрады ранней весной 1963 года. Название, казалось, должно было отпугивать, а оно неожиданно привлекло зрителей. Спектакль шел на аншлагах. Правда, недолго. Прошел он всего 4 раза. А перед пятым спектаклем в театр неожиданно приехала министр культуры СССР Е. А. Фурцева.
Спектакль она не видела — это совершенно точно: я присутствовал на всех представлениях, и ее в зрительном зале не было. Фурцева зашла прямо к главному администратору (!) и стала его расспрашивать, как тут дела в театре, какие творческие (!) планы. Вскоре сверху, из кабинета, прибежал перепуганный директор театра. Как потом рассказывали очевидцы, Фурцева долго смотрела на афишу нового спектакля и потом сказала капризно и недобро: «А это что такое? Почему в театре эстрады ждет это?»
Директор стал лепетать что-то невразумительное, а министр, оборвав его, грозно произнесла: «Снять! И немедленно!» После чего отбыла восвояси, сопровождаемая своей обычной дамской свитой.
Меня в это время в театре не было, и я до вечера ничего не знал. Когда я приехал к началу очередного спектакля, афиши были уже изъяты, а у входа красовался яркий плакат, оповещающий зрителей, что спектакли отменяются, а билеты подлежат возврату в кассу театра.
Я не мог поверить, что вот так, не видя спектакля, можно взять и запретить его. Ведь над ним долгое время работал большой коллектив!
Я бросился звонить Фурцевой. Но безуспешно. Референтка (а в официальном окружении госпожи министра были только дамы) просила подождать — очевидно, ходила советоваться с «самой». Потом сообщила, что министр занята, говорить со мной не сможет, и посоветовала «позвонить на той неделе». Правда, не уточнив, когда. Ясно было, что Фурцева уклоняется от разговора со мной.
В то время я уже находился в опале: незадолго до этого, в марте 1963 года, Хрущев провел встречу с деятелями культуры и весьма неодобрительно отозвался и о моем «джазовом» концерте в Кремлевском театре. Ясно, что Фурцеву «навели», как ракету, на мой спектакль, и она, «выйдя на цель», произвела неизбежные разрушения...
Последнее впечатление от моего пребывания в Московском театре эстрады. Утром, перед отъездом в отпуск, я заехал туда, зная, что это, очевидно, в последний раз. Зашел на сцену и увидел, как рабочие под руководством торжествующе урчавшего завпоста с какой-то остервенелой радостью забивают сценические круги фанерой. Я спросил, кто распорядился. Оказалось — руководство ВГКО.
Круги забивали, чтобы и памяти не осталось о моих спектаклях...
Конкурсы, конкурсы
В наши дни по той части площади Маяковского (теперь Триумфальная), что у ресторана «Пекин», проносятся машины. Когда-то здесь, у начала 1-й Брестской улицы, стоял старинный особняк. В нем помещался ресторан «Альказар», затем ряд лет Театр сатиры. А в июне 1954 года в этом здании открылся Московский театр эстрады. Он просуществовал на площади Маяковского до 1961 года. Потом переехал на Берсеневскую набережную, а в старом особняке поселился совсем еще молодой тогда «Современник». Когда же «Современник» переехал в «Колизей», здание и весь квартал снесли.
Теперь здесь — ровный асфальт. А для театральной Москвы с этим местом связано многое. Какие страсти здесь кипели, сколько критических копий сломано, сколько спектаклей, программ, представлений было здесь создано! Какие таланты оставили здесь «чекан своей души»!..
Я бывал в Театре эстрады много раз (по должности) на приемах программ. Зимой 1960 года я пришел в него уже главным режиссером. Предыдущее руководство ушло, оставив «выжженную землю»: портфель театра был пуст, никаких творческих планов. Все надо было начинать сначала.
Вскоре после моего прихода в театре должен был проходить Всероссийский конкурс артистов эстрады. Об этом хочется рассказать особо.
Это был первый Всероссийский конкурс — может быть, поэтому он собрал так много замечательных исполнителей. Пожалуй, больше никогда Всероссийские конкурсы не собирали такого созвездия талантов. Достаточно сказать, что первые места заняли: по народному танцу — Махмуд Эсамбаев, по народной песне — Людмила Зыкина, по разговорному жанру — Зинаида Шарко и Сергей Юрский, Александр Лившиц и Александр Левенбук, по оригинальному жанру — Ирина Осинцова и Олег Иванов, братья Борис и Владимир Воронины, Раиса Калачева и Михаил Птицын, Зинаида Евтихова и Николай Фатеев, Михаил Мещеряков, в жанре эстрадной песни — Анастасия Кочкарева...
В «звездном» жюри были представлены: председатель — Н. Смирнов-Сокольский, А. Райкин, Л. Утесов, К. Шульженко, Л. Маслюков, Н. Богословский, А. Цфасман, М. Миронова, А. Шуров, Н. Рыкунин, И. Набатов, Л. Миров...
Для меня участие в первом в моей жизни жюри стало отличной школой: я погрузился в атмосферу эстрадной жизни, в ее проблемы, ближе узнал артистов. Постепенно и ко мне стали привыкать, видя, что не такой уж я злодей и «комиссар».
I Всероссийский конкурс артистов эстрады шел своим чередом. Первое заседание жюри проходило в директорском кабинете, тесном и неудобном, где все с трудом разместились. Каждое заседание превращалось в интереснейший спор о проблемах того или иного жанра. Можно только пожалеть, что не осталось записей тех словесных баталий, в которых вскрывалось много интересного и талантливого.
Н. П. Смирнов-Сокольский вел заседание шумно и сумбурно, пересыпая речь остроумными сентенциями. Время от времени он кричал: «Боря, чаю!» И главный администратор театра подносил ему очередной стакан подозрительно темного холодного чая. Наш председатель постоянно пил этот «чай», распаляясь все больше и больше. Вдруг он откинулся на спинку кресла и прорычал: «Фу! Жарко! Пройдемте-ка лучше в мой кабинет, — и, зыркнув глазами, добавил, обращаясь ко мне: — Временно занимаемый вами!» Повисла пауза, а затем разразился хохот. Все поднялись и пошли в огромный кабинет художественного руководителя, «временно занимаемый» мною.
Мне было, конечно, обидно, но я не мог не оценить его остроумия. Я понимал — камень брошен в мой огород. Надо было отвечать. Но отвечать достойно: проигрывать в этой переброске булыжниками было нельзя.
В это время мой брат, скрипач Антон Шароев, вернулся из гастролей по Венгрии и привез мне в подарок отрез темно-синего бархата. За те две недели, что шел конкурс, мне успели пошить большой бархатный пиджак, напоминающий концертный костюм Смирнова-Сокольского. Эта «операция» проводилась в полной тайне.
На заключительное заседание жюри я специально опоздал на пятнадцать минут. И вот открываю дверь кабинета («временно мною занимаемого») и молча предстаю перед всем жюри... в костюме Смирнова-Сокольского, который в эту минуту произносил одну из своих громогласных тирад. Он остановился, изумленный, на полуслове. Пауза была почти гоголевская, из немой сцены. Надо отдать Николаю Павловичу должное — он захохотал первый, и за ним — все жюри. Смирнов-Сокольский оценил мой «ответ» по достоинству.
Вообще, мне казалось, что когда мы с ним общались, то у него возникала ко мне некая симпатия. А потом — все менялось. Его «накручивали», настраивали те, кто боялся нашего сближения. Вокруг Смирнова-Сокольского всегда кормилась целая группа «прилипал». Его всячески использовали: зная буйный и самолюбивый нрав этого незаурядного человека, тихой сапой руководили им (о чем он сам, конечно, не догадывался), умело направляли так, как им было выгодно. А он — при всем своем уме и опытности — был до удивления наивен и безоговорочно верил своему окружению: взрывался, кричал и со всей мощью своего темперамента шел громить, крошить. Бывало, что и на пользу дела. А чаще — во вред. На пользу — только «прилипалам».
Такой был он человек — «сложный», как его называли за глаза. И я могу только пожалеть, что между нами все время суетились прихлебатели, делавшие свое нечистое дело.
Начиная с 1960 года, я входил в состав жюри всех Всесоюзных и Всероссийских конкурсов эстрады. Ценность таких соревнований в том, что они объективно отражали состояние дел на эстраде. А главное — они выявляли молодые таланты. Ведь не случайно, что именно на конкурсах впервые зазвучали имена многих артистов, которым была суждена большая жизнь в искусстве. Потом многие из них принимали участие и в международных состязаниях, открывших им дорогу в большой мир.
Но не обходилось и без казусов.
1974 год, V Всесоюзный конкурс артистов эстрады. В нем участвовала совсем еще молодая Алла Пугачева. Когда жюри на заключительном заседании стало распределять премии, выяснилось, что Алла по очкам не проходит в лауреаты (!). Мы, группа членов жюри, были ошеломлены результатом. То, что Пугачева — неожиданное и необычное явление, было понятно всем. Было ясно: на смену обычному лирическому приходит новый стиль — глубоко драматический (порой — до трагизма), органически сочетающийся с эксцентрикой, даже с клоунадой.
Но жюри было в растерянности: для этого явления еще не нашли «ярлыка».
Тогда встала Гелена Великанова. Она была звездой эстрады, пользовалась огромным успехом и любовью. Именно с ее именем связан целый цикл лирических песен, которые вслед за ней пела вся страна. И именно Великанова встала на защиту Пугачевой. Она произнесла такую пламенную речь, что жюри притихло, пораженное. И закончила Великанова так: «Всем нам будет всю жизнь стыдно за то, что мы загубили молодую талантливую певицу!»
И Пугачева получила... третью (!) премию. Думаю, что всем нам и сегодня должно быть стыдно, что Алле не присудили тогда золотую медаль. Правда, через год она все-таки получила ее, но не у себя в стране: стала победительницей международного конкурса «Золотой Орфей». Началась ее мировая артистическая карьера.
На моих глазах «загорались» многие звезды. Было очень интересно наблюдать за их творчеством: как они росли, как крепло их мастерство и как они из способных и подающих надежды превращались в подлинных мастеров.
Вспоминаю, что когда появился совсем молодой Геннадий Хазанов, на него сразу обратили внимание. Все поняли: пришел человек со своим лицом, со своей темой. Иными словами — перед нами личность, так нечасто встречающаяся индивидуальность. На V Всесоюзном конкурсе артистов эстрады мы аплодировали Хазанову и единогласно присудили молодому артисту первую премию. И я очень рад, что мы не ошиблись.
Эстрада требует особой одаренности. Здесь трудно обмануть — ведь артист лишен многих средств театрального искусства, за которые можно спрятать свою неумелость: декораций, музыки, грима, театрального костюма, наконец, партнеров. Он стоит у микрофона один-одинешенек и надеяться ему не на что и не на кого — только на самого себя. Тут-то и происходит полная проверка — кто ты? что умеешь? или же не умеешь ничего? Личность ты или так — «господин никто»? Жесткие это условия, но справедливые. На эстраде все заметнее...
Начинал Геннадий Хазанов как пародист. И очень хороший. Целая галерея образов возникла в его выступлениях: Райкин, Озеров, Луи де Фюнес, Тонков и Владимиров, Карцев и Ильченко. Говорю — образов, потому что у него в каждой пародии возникал точный образ того или иного мастера. Но при этом артист сохранял свое собственное «я»: он держал дистанцию между собой и изображаемым лицом. Эта «отдаленность» придавала его исполнению своеобразие и оригинальность.
Пародии — это доброе и милое шаржирование, но и в дружеских шаржах иногда проскальзывают нотки сарказма. Хазанов был значительно глубже этого «искусства вторичного отражения»: его влекло к вещам более глубоким и самостоятельным. Постепенно у него появилась тяга к сатире. Он все более укреплялся в критических монологах, обращаясь к темам, по тем временам смелым и острым до чрезвычайности.
В становлении Хазанова большую роль сыграло и отношение к нему Райкина. Аркадий Исаакович любил его, поддерживал, опекал. Великий артист, судя по всему, почувствовал в молодом Хазанове близкую ему душу.
Он рос стремительно и уверенно, точно зная свою цель. Далеко не все проходило гладко и спокойно. Не раз Геннадий Хазанов после очередного сатирического монолога сам попадал «под огонь»: его запрещали, «вычеркивали» из телевидения, из больших концертов. Но держался он стойко: у него было внутреннее убеждение в своей правоте. Думаю, что это обстоятельство поддерживало многих артистов в трудной борьбе за право говорить людям правду.
Многих нервов стоила Хазанову эта борьба за самостоятельность. Но именно на этом пути он созрел как художник и гражданин, обрел свое неповторимое лицо. Пройдя школу сатирического монолога, Геннадий Хазанов дорос до моноспектаклей. Этот жанр стал главным в творчестве артиста.
Сегодня он — создатель уникального театра, где и художественный руководитель, и единственный актер — он сам. Публицистика, чрезвычайно смелая даже по нашим сегодняшним меркам, точность в выборе темы, ясная гражданственная позиция, блестящее исполнительское искусство, яркий сатирический талант — это сегодняшний Геннадий Викторович Хазанов, крупнейший мастер нашей эстрады.
В 1977 году на VI Всероссийском конкурсе, где я возглавлял жюри, победителями стала целая группа талантливой молодежи: Любовь Полищук, Владимир Винокур, Роман Казаков и Илья Клявер, Светлана Власова и Олег Школьников, Лилия Сабитова, Алексей Бернштейн, Ирина Дагаева и Алексей Карпенко... Все они уже стали мастерами, доказав, что мы не ошиблись в оценках их возможностей.
Но конкурс показал, что не все ладно в нашем «эстрадном королевстве». Я сказал об этом в своем интервью: «Блестяще показали себя эстрадно-цирковой и оригинальный жанры: много интересных решений номеров, настоящих находок, высокий профессиональный уровень исполнения. Таких слов нельзя сказать, за редким исключением, об участниках конкурса в речевом жанре и конферансе. Это не просто огорчает — это настораживает. Публицистика с ее силой воздействия на зрительный зал практически отсутствовала. Конкурс задел больную струну...»
Эта «больная струна» — отсутствие на эстраде публицистики — была задета давно. На художественных советах в Министерстве культуры СССР умирание публицистики в речевых жанрах было постоянной темой. Мы искренне старались реанимировать жанр: проводили конкурсы по созданию публицистического репертуара для эстрады, не понимая того, что все эти искусственные меры ничего не дадут.
Тогда еще не пришло время.
Оно наступило после 1985 года, когда гласность открыла шлюзы для критики, сатиры и политсатиры. И тогда естественным путем, без искусственных попыток гальванизировать публицистику, она вернулась на эстраду и стала главной в речевых жанрах.
Сегодня ни один эстрадный концерт, ни одно представление немыслимо без яркого публицистического слова. Этот пример только лишний раз подтверждает, что эстрада, отражая жизнь народа, чувствует общественный и политический «градус», сама регулирует как тематику, так и жанровое многообразие. Потому и живет на сцене то, что продиктовано жизнью, и рождается (или возрождается) то, что необходимо именно сегодня.
ЗА КУЛИСАМИ КРЕМЛЕВСКИХ КОНЦЕРТОВ
Слово в защиту
Я давно хотел рассказать об этом. Но понимал — безнадежно: никто и не подумает напечатать. А все, что накопилось, не давало покоя от невысказанности.
Теперь наконец можно.
То, о чем пойдет речь, вспоминается как трагический фарс, в котором было много абсурда. Но бывали и драматические ситуации. Людьми со стороны, в том числе и частью представителей прессы, поднимающей только верхний слой событий, к большим театрализованным концертам прикреплены ярлыки: их снабдили расхожими эпитетами «парадные», «победно-фанфарные». И в общественном сознании сложился некий стереотип в отношении массовых зрелищ, в основном — негативный. И еще — те, кто организует, ставит эти концерты, устроил себе «теплую» жизнь, и главное — спокойную. Если встать на такую точку зрения, то все режиссеры, кого притягивали простор площадей, открытое небо над головой, возможность создавать масштабные зрелища, — не больше чем приспособленцы. Но не надо спешить с выводами.
Именно поэтому необходимо кое-что прояснить. Необходимо вспомнить историю.
Один из основоположников такого вида зрелищ — знаменитый художник Луи Давид, организатор массовых празднеств времен Великой французской революции. В первой половине ХХ века во Франции массовые зрелища ставил Фирмен Жемье, в Германии — Макс Рейнхардт и Эрвин Пискатор.
У нас в 20-е годы массовый политический театр под открытым небом создавали такие «приспособленцы», как Константин Марджанов, Николай Петров, Сергей Радлов, Николай Евреинов, Адриан Пиотровский, Николай Охлопков. И в списке режиссерских работ Всеволода Мейерхольда есть массовые зрелища. И Евгений Вахтангов готовился осуществить «Спектакль ноябрьских торжеств», но ему помешала болезнь. Неплохая компания — не правда ли?
В 50 — 60-е годы в этом жанре царил Иосиф Туманов. В 60-е годы взошла звезда Георгия Ансимова и автора этих строк. В 80-е годы к постановке больших концертов на сцене Кремлевского Дворца съездов обратился известный балетмейстер Игорь Моисеев, еще в конце 30-х годов поставивший ряд физкультурных парадов на Красной площади.
Все названные выше «повинны»: одни в том, что жанр родился, другие — в том, что он развивался. Но судя по всему, хулителям нашего дела невдомек, что у жанра давно уже есть своя история.
Видеть в массовых зрелищах лишь теневую сторону, закрывая глаза на радостное настроение и праздничность, которые они всегда несли людям, — значит, либо в самом деле не понимать сути дела, или же сознательно искажать действительную картину.
На массовые зрелища в последние годы набрасывались с такой неистовой публицистической страстью, что складывается впечатление, что мы уже решили все проблемы нашей запутанной жизни и осталось лишь уничтожить еще и массовые праздничные зрелища. И вот тогда — «полный вперед, к сияющим вершинам!».
В том потоке негатива, который прямо-таки бушует у нас в последние годы, растворилось многое: как теперь выясняется, все, что было прежде, оказалось плохим только потому, что оно было прежде. А ведь прежде было и немало хорошего, радостного. Да, ныне мы получили великую возможность, говоря по-простому, «развязать языки» и «нести» всех и вся на любом уровне и в любом месте. Но ничто без последствий не может быть изъято из общей конструкции, часть не может без ущерба для себя существовать без целого, состоящего из многих других частей и частностей. Да, одну из частей мы получили — «языки развязали». А другие составляющие нашей жизни? Они либо уже разрушились, либо находятся при последнем издыхании.
...В те далекие (теперь кажется — доисторические) времена, когда махровым цветом распустился «период застоя» (по которому теперь у многих в душах нередко просыпается запрятанная глубоко ностальгия), в стране было много песен, стихов, танцев. И не только потому, что, как уверяет восточная мудрость, в хорошие годы родятся поэты и много песен, а в плохие — пыль и много начальства. Просто люди жили веселее и дружественнее. И не только республика с республикой. И в семьях больше было согласия и человечности. И песен больше пелось. И массовые зрелища были радостные, звонкие, красочные — то были подлинно народные зрелища.
Сегодня зрелища переместились в большие залы, где заседают наши с вами депутаты, где совсем нерадостно, но зато торжествуют словесная эквилибристика (зачастую не слишком грамотная), недоброжелательность и недоверие, даже — рукоприкладство. Или же на площади городов, где постоянно «скрещивают шпаги» представители многочисленных партий, обществ и объединений. Здесь тоже есть и авторы сценариев, и своя режиссура — чего греха таить.
Я же хочу рассказать о других массовых зрелищах, которые я ставил и которые несли людям радость. Массовые театрализованные зрелища, если они сделаны честными руками, — это народные праздники, созданные для народа и исполняемые лучшими творческими силами. И в этом никто меня не переубедит, потому что я — режиссер-практик и знаю этот жанр лучше любого самого крикливого моего критика. Стыдиться мне нечего, так же как — уверен! — и моим выдающимся предшественникам.
Когда я писал сценарий праздника в честь 600-летия Куликовской битвы и потом осуществил его постановку там, на легендарном поле русской славы, я делал это, восхваляя великий подвиг народа, а не прославляя кого-то из очередных вождей. А когда фестивали народного творчества собирали лучших артистов и я был режиссером заключительных концертов-спектаклей в КДС, — для меня это было художественное выражение народного деяния.
Да, эти массовые театрализованные концерты называют теперь «парадными» и «ура-патриотическими». И справедливо. Но в каком смысле?
Я не понимаю, почему народ огромной страны, показывающий всему миру свое уникальное национальное искусство, должен не радоваться, а печалиться или каяться? Фольклорное творчество — это гордость народа: значит, он сохранил свою культуру, пронес через века — через голод и смерть, сквозь огонь войн и революций, сквозь ломку различных общественных формаций. Почему же это не должно быть праздником, парадом народного искусства? Кто может дать вразумительный ответ на это? Пока никто не ответил. И — уверен — не ответит.
И по поводу «ура-патриотизма». Что плохого в том, что народ с гордостью и радостью поет о своей родной земле, которую он украшает своим трудом, которую он не раз поливал своей кровью, защищая от врага?
Что дурного в этом «ура-патриотизме», если земля эта — Родина и если народ любит свою Землю-Мать?
Да, бывали случаи, когда в больших концертах мелькали в кинокадрах очередные «вожди». Было и так: во славу Брежнева украинский композитор написал достаточно подхалимскую песню, и в последний момент руководство заставило вставить ее в концерт в КДС. Это давление шло на таком предельно высоком уровне, что сопротивляться было бесполезно. Было сказано, что «самому» уже доложили, что о нем споют в концерте песню, и он изволил «одобрить».
К теперешним язвительным выпадам прессы по этому поводу у меня отношение однозначное: а что в те годы писали те же самые газеты и журналы? Ведь и они «героя» того концерта, иначе как «верный ленинец», не называли. А однажды, во время очередного партийного съезда, даже вот так простенько — «гениальный продолжатель». И все газеты ведь это печатали, с огромными портретами и с какими «репортажами из зала заседаний»!
Сегодня же эти газеты и журналы кроют последними словами все тех же «продолжателей». Их запоздалая «смелость» ничего, кроме улыбки, не вызывает, а так — «нос по ветру», холуйская «смелость вслед». И что эти же люди через некоторое время будут писать про сегодняшних? Да еще при таком богатом опыте?
Есть какая-то трагикомическая закономерность газетно-журнальной эстафеты. Лизали пятки Сталину — потом перестроились: стали лизать Хрущеву, а Сталина крыть. Пришел Брежнев — опять перестроились: стали крыть Сталина и Хрущева, лизать Брежневу. Умер Брежнев — не успели перестроиться: ни Андропов, ни Черненко долго не прожили. Но вот пришел Горбачев — и тут уже полнейшая перестройка: уничтожали всех предшественников, начиная с Ленина. А ушел Горбачев — и его стали крыть, яростно, со вкусом. А что будет потом? Кого потом будут поливать и кому петь осанну?
Праздник должен быть праздником — радостным и звонким. И народным, и парадным, и красочным. В противном случае это не праздник, а та серая будничность, которую мы хлебаем ежедневно. И это касается не только нас.
Пышными и парадными были празднества 200-летия Соединенных Штатов Америки. Красочность бразильских карнавалов вошла в поговорку. Прекрасными зрелищами были открытия и закрытия Олимпиад, Международных фестивалей молодежи. Так было и так будет всегда, во всех странах. Но почему-то у нас именно за эти отличительные черты жанра его стали крыть почем зря, не понимая, что этот жанр иным быть не может.
Для интересующихся — несколько страниц истории.
Нашему жанру около тридцати веков. Зачинался он в Древней Элладе, и там массовые зрелища были государственными праздниками. Не случайно Писистрат в VI веке до нашей эры, создавая официальный государственный культ Диониса, преследовал политические цели, ибо Дионис издавна был традиционным богом простого люда. Так Дионис — бог вина и плодородия, следовательно, и самой жизни, — стал символом народного веселья, а Великие Дионисии — праздником весны, плодородия и здоровья.
И к этим массовым празднествам народ Афин готовился специально и долго, то есть — они создавались, ставились. И, судя по источникам, торжества эти были, говоря языком сегодняшних критиков, парадными и (простите!) официозными, ибо утверждались правителями Афин и отражали определенные политические и общественные позиции.
Празднества Древней Эллады были многогранны и многозначны: в них звучали и трагические ноты. Один из дней целиком посвящался памяти мертвых, а в Элевсинских мистериях — обряде-зрелище, основанном на мифе о поисках богиней Деметрой пропавшей дочери, — в ночной мгле шли печальные процессии с факелами в руках, и слышались стенания плакальщиц. (Кстати, факельные процессии, родившиеся в Древней Элладе, дожили до наших дней.)
Организаторы грандиозных (а значит, и парадных, пышных!) античных празднеств не назывались в те времена режиссерами-постановщиками, но есть свидетельство, подтверждающее существование античной режиссуры. Когда по окончании Великих Дионисий в Афинах собиралось народное собрание, подводившее итоги празднества, то имена победителей увековечивались. Отмечались и организаторы, иными словами — режиссеры: на главной афинской улице Треножников в их честь воздвигали статуи при жизни. Об этом неплохо бы знать нынешним просвещенным и эрудированным критикам...
В дни Великих Дионисий народ одевался не в худшие свои одежды, пел лучшие песни и читал стихи самых талантливых поэтов. А многочисленные шествия по улицам Афин были хорошо оснащены и отрепетированы. (Хорошо, что тогда не было теперешних наших грозных критиков, а то «режиссерам» не статуи при жизни ставили бы, а вообще из страны прогнали бы. Или прикончили бы в темном афинском переулке...)
И народные празднества эпохи Возрождения — те же карнавалы — были массовыми и «радостными.
И зрелища времен Великой французской революции были празднествами государственными: сценарии Луи Давида утверждались революционным Конвентом. Счастье Луи Давида, что он не сподобился читать тех пошлостей, которые читал о себе каждый из нас, режиссеров. А то бежал бы от режиссуры массовых празднеств к своему мольберту и зарекся бы прикасаться к проклятому этому жанру. И не остался бы в истории не только как великий художник, но и как великий постановщик.
Выдающихся режиссеров русского театра, обратившихся к созданию политического театра под открытым небом, тоже увлекали патетические и монументальные зрелища, полные пафоса и героики. Но поскольку происходило это уже в нашей стране, эти режиссеры тоже «получили» свое: их критики тоже крыли за помпезность и тенденциозность.
Таков кратчайший обзор истории режиссуры жанра — для критиков. А они, надо отдать должное, достаточно последовательно и убедительно демонстрировали полную путаницу в этом деле, непонимание драматургии массового действа и т. д. и т. п. Как заевшая патефонная пластинка: «торжественность, помпезность, парадность...» Еще Б. Брехт утверждал: «К торжественности обычно прибегают, пытаясь придать какому-либо делу значение, которого оно начисто лишено. Когда дело само по себе значительно, одно сознание этой значимости уже порождает торжественность»[4].
Я говорю о празднествах, основой которых было народное искусство. Значительно ли это «дело само по себе»? Дает ли оно «сознание значимости», которое, по Брехту, «порождает торжественность»? Здесь есть две различные позиции, точно определенные Брехтом: мнимая торжественность и подлинная, порожденная значительностью события.
Какие же слагаемые жизни — серость, будничность, злобность, уныние, попугайное повторение прописных истин — должны мы прославлять? Им не место на празднике! Празднество заряжено живительной энергией народа, его радостным ощущением бытия. Без этого оно теряет смысл и цель и перестает быть таковым.
Теперь об оборотной стороне медали.
Режиссеры обычно не писали о том, что происходило за парадным фасадом красочных театрализованных зрелищ. А много ли радости доставляли они тем, кто их создавал?
Наша «троица», которую «допускали» до главных концертов, — И. Туманов, Г. Ансимов, И. Шароев — через что только мы не прошли! На режиссерской Голгофе — в «предбаннике» ложи дирекции КДС, за большим круглым столом, где проходили обсуждения концертов, — каждый из нас не раз оказывался в роли подсудимого, выслушивая прилюдно (а собиралось порой 50—60 человек) и поношения, и угрозы. За этим круглым столом меня столько раз (правда, на словах) с работы снимали, из партии выгоняли, из Москвы выселяли... Чем не «рыцари круглого стола»?
Все было: и трудное «прохождение» сценариев и программ концертов по всем инстанциям, и «ценные указания», и умопомрачительный уровень некомпетентности дающих эти указания, и их — постоянная, беспричинная и труднообъяснимая — злобность. И уж конечно — неподдающаяся никаким сомнениям безапелляционность. И все это — при полном ощущении вседозволенности.
1958 год. Хрущевская «оттепель».
В Кремлевском театре готовится театрализованный концерт. Я назначен постановщиком. Работники Отдела пропаганды и агитации ЦК, министр культуры РСФСР собрались в «Большом доме» на Старой площади, и я читаю им сценарий, подробно объясняя каждый эпизод. Хозяин кабинета, мрачно поглядывая на меня, слушает, не проронив ни слова.
Заканчиваю свой монолог. Повисает большая гнетущая пауза. Я молчу, и все молчат — никто не рискует «вылезти» со своим мнением (тогда субординация соблюдалась свято). Наконец хозяин кабинета произносит с достоинством, негромко: «Ну, значит, сценарий мы одобряем. — И строго посмотрев на всех, добавляет: — Коллегиально». Все согласно закивали головами. После высказанной ценной мысли хозяин кабинета долго молчит, видимо, что-то вспоминая. Все сидят «коллегиально» молча — вопросов задавать не принято, тем более — высказываться: здесь надо слушать и исполнять. И вдруг, видимо, найдя то, что напряженно искал в закоулках памяти, обращается ко мне: «Ты смотри, Шуруев (!). — И, погрозив указательным пальцем, добавляет, строго глядя на меня: — Чтоб весело было!»
Меня потом долго называли Шуруевым, а фраза «чтоб весело было!» гуляла за мной не один год.
Помню, как однажды хохотал, найдя у Тютчева: «У нас привыкли лечить зубную боль посредством удара кулака в челюсть». И еще я веселился (правду сказать, скорее печалился), прочтя тютчевское же: «...скопище кретинов, которые наперекор всему и на развалинах мира, рухнувшего под тяжестью их глупости, осуждены жить и умереть в полнейшей безнаказанности своего дикого кретинизма».
Это сказано еще в прошлом веке...
В театре у Спасских ворот
В 1959 году я был — ни больше, ни меньше — художественным руководителем Кремлевского театра. В свои 28 лет я важно восседал в шикарном кремлевском кабинете (за стеной, как говорили, был кабинет Председателя Президиума Верховного Совета — только входы с разных парадных), выезжал из ворот Спасской башни на черной «Волге», и охрана отдавала мне честь. Я в ответ помахивал ручкой...
Тогда еще не было Дворца съездов — он только строился, и его функции выполнял Кремлевский театр. Он находился в ведении комендатуры Кремля, и Министерство культуры, представителем которого я являлся, было там на положении бедного родственника. Министерство хорохорилось, делало вид, что оно руководит Кремлевским театром. Конечно, то была только видимость, ибо оно не могло равняться с таким могучим ведомством.
Во главе театра стоял начальник (он именно так и назывался официально: не директор, а начальник) и был в чине полковника. Звали его старинным именем Нифантий. Он вполне оправдывал свое высокое назначение: управлял всем, и без его разрешения ничего в театре не происходило.
Надо отдать должное — коллектив работал с четкостью для обычного театра фантастической, порядок в театре сохранялся идеальный, как в образцово-показательной военной части; несколько раз в день солдаты из кремлевской охраны наводили в фойе глянец на паркет. Образцовый порядок сохранялся и в зале, и даже (!) — за кулисами. После каждой репетиции специальные наряды чуть ли не вылизывали каждый сантиметр, нелестно отзываясь об артистах, «загадивших», как они выражались, Кремлевский театр. Четкость, организованность, чистота, порядок — все на высшем уровне.
Сложнее было с художественной частью. Мне, собственно, никто не подчинялся: постановочная и административная части были в ведении комендатуры, а в моем — один-единственный В. Мамонтов, главный художник театра. У меня не было ни режиссеров, ни редакторов — един во многих лицах.
Жизнь театра шла по раз и навсегда установленному регламенту. После каждой репетиции составлялся протокол — о количестве людей, времени репетиции и давалась оценка (!) того, как прошла репетиция. Занимался этим заместитель начальника театра, и протоколы подавались начальнику, а зачастую — и выше. Так что каждая репетиция шла, как в аквариуме, и меня не покидало ощущение, что я репетирую в театре со стеклянными стенами.
Репетиции на сцене, обсуждения, доклады о планах театра — все становилось документом, фиксировалось на пленку. Даже разговоры в моем кабинете. Я перестал откровенно разговаривать в нем, как только начальник театра (на третий день моего «вступления в должность») чистосердечно (надо отдать ему должное) сказал мне без свидетелей: «Ты, Григорьич, особенно язык-то не распускай в кабинете. Пишут ведь все...»
«Порядок» в театре был своеобразный. Вдруг репетиция задерживалась на час-полтора: у всего Кремлевского театра шла партучеба или же политчас. В это время театр был наглухо закрыт, в здание никого не пускали, и все артисты толкались у входа, невзирая ни на какую погоду.
Изменить это было не в моих силах: все протесты по этому поводу вызывали искреннее недоумение: что ж нам, партучебу прекратить ради ваших песен и танцев? И хотя в такие дни репетиция начиналась с опозданием на полтора-два часа, но ровно в 13 часов появлялся неизменно румяный, упитанный заведующий постановочной частью Альберт и, хлопнув в ладоши, радостно возвещал на весь зал: «Ребята, обед!». И все кончалось.
Бывало и еще нелепее: в ходе сложных массовых репетиций в зале порой возникала величественная фигура самого Нифантия, и он объявлял, что необходимо срочно провести совещание о подготовке к репетициям и целесообразном их проведении. Я протестовал, спрашивал, почему это нельзя сделать после. «Нельзя, — следовал ответ, — потому что перед этим народ (!) должен пообедать, а в 15 часов у них пересменок — придет другая смена».
И опять повторялось все то же: свет повсюду выключался, службы, дружно топая, отправлялись дремать на совещание, а огромное число исполнителей слонялось без дела по театру. Репетиция срывалась... из-за совещания, посвященного тому, как улучшить репетиции... Потом, после совещания, все службы театра бодро шагали на обед, в результате чего до конца репетиции оставался всего один час.
Но самое непонятное было то, что работа все-таки шла, спектакли получались и даже имели успех. Меньше чем за год мне удалось поставить несколько театрализованных концертов, посвященных искусству народов России, ряд других массовых представлений. Больше всего запомнился мне детский спектакль-концерт. Мы сделали его вместе с В. С. Локтевым, замечательным деятелем культуры, создателем пионерского ансамбля, ныне носящего его имя. Этот праздник детского искусства стал прообразом других подобных театрализованных концертов в Кремлевском Дворце съездов, которые в дальнейшем мы осуществляли с В. С. Локтевым.
Напоминаю, шла недолгая хрущевская «оттепель», и в области культуры наблюдалось некое оживление: с целого ряда тем был снят запрет, стало легче говорить языком эстрады о нашей жизни, даже — что раньше было просто немыслимо! — критиковать ее со сцены Кремлевского (!) театра.
Но обстановка в самом театре не менялась, регламент военной части остался незыблем. Меня это угнетало, и я попытался что-то изменить во взаимоотношениях между министерством культуры и комендатурой Кремля. Тщетно пытался я добиться большей самостоятельности в решении художественных и производственных проблем: видимо, мои попытки воспринимались как стремление к анархии. Мои надежды на поддержку министерства тоже оказались эфемерны — там я слышал одно и то же: «Вам на месте видней. Сами и решайте». Я продолжал настаивать на своем, и в министерстве родилась новая версия — Шароев хочет поссорить минкульт с кремлевской комендатурой.
Я оказался между двух огней. Сразу выяснилось, что в Кремлевском театре я вообще занимаюсь режиссерскими делами (а чем я еще должен был заниматься?). И тут еще — очень кстати — добавилась история с пьесой Олега Стукалова «Карточный домик».
Этот спектакль шел в Малом театре. Мне он понравился, и я решил показать его на сцене Кремлевского театра. Билеты были проданы, уже шли репетиции. Но в день спектакля меня вызвали к министру, последовало категорическое «отменить». Во время весьма нервного разговора ничего не объяснили. Просто — снять, и все! Видимо, этому предшествовал грозный окрик из ЦК, ибо ничего не обсуждалось, а неуклонно выполнялось.
Я понимал, что мне не справиться с теми силами, которые вступили в действие, и только просил объяснить, почему один и тот же спектакль может идти на сцене Малого театра — театра режимного, «императорского», — и не может идти на кремлевской сцене, всего в полукилометре от Малого?
В краткой кабинетной лекции мне было столь же категорически разъяснено, что Кремлевский театр — это особо почетное место, что там часто бывает руководство страны и театр является эталоном для всех и должен отражать государственную политику в области искусства. При этом выражалось глубокое сожаление, что худрук не понимает таких важных задач.
Мне поручили разобраться с Малым театром: «Сам натворил, сам и расхлебывай». И я начал «расхлебывать». Позвонил М. И. Цареву — тогдашнему директору Малого — сказал, что нам необходимо срочно встретиться. Через 10 минут я уже входил в его кабинет. У него только что закончилось какое-то совещание, и в кабинете находились многие звезды — Е. Н. Гоголева, И. В. Ильинский, М. И. Жаров. Царев, человек воспитанный, подчеркнуто вежливо встретил меня: пошел навстречу, поздоровался, представил присутствующим. Те отвечали вежливыми театральными улыбками — словом, в полной мере был разыгран театральный Версаль.
В растерянности и в отчаянии от всего происходящего, я вел себя необычайно уверенно, боюсь, даже безапелляционно. Тоном, не допускающим возражений, я заявил, что спектакль снят и сегодня в Кремлевском театре не состоится... Гнетущая пауза на целую минуту.
Михаил Иванович схватил трубку, набрал номер министра культуры, но референт объяснил, что министр вызван в Совмин и будет только к вечеру (я только что приехал от него и знал, что он на месте и ждет моего звонка. От Царева он просто прятался). Взбешенный Царев бросил трубку, затем опять набрал чей-то номер. По имени-отчеству, им названному, я узнал, что он звонит заведующему отделом пропаганды и агитации ЦК. Того, естественно, тоже не оказалось на месте. Я сидел перед всеми звездами, сверлившими меня глазами, и молчал. Молчали и они. Ничего не оставалось делать, как встать и откланяться. Мне никто не ответил.
Буря после моего ухода поднялась страшная. Царев дозвонился до кого-то из секретарей ЦК, до союзного министра культуры, в скандал включили драматурга Николая Погодина — отца Олега Стукалина. Тот тоже звонил в ЦК. Я вернулся в театр, в кабинет начальника — у него был кремлевский телефон-«вертушка», — и время от времени звонил министру. Ко второй половине дня на каком-то уровне ситуация стала меняться — очевидно, вмешательство Царева и Погодина сыграло свою роль. У меня отлегло от сердца.
Но все-таки серьезный разговор с Нифантием у нас состоялся. Отобрав для показа «Карточный домик», я не согласовал ни с кем из руководства включение этого спектакля в репертуар Кремлевского театра. Пьеса была как пьеса. И найти в ней политические выпады — это надо было очень сильно постараться. Но ведь нашли! И об этом мне грозно сообщил начальник театра: он, по своим каналам, уже был в курсе дела — больше, чем я. Реакция у него была однозначная: «Что же ты всякое дерьмо в Кремль тащишь!»
За час до начала спектакля по кремлевскому телефону все-таки последовало категорическое: «Спектакль отменить!»
И отменили. Последовала выплата неустойки, начеты, крики, вопли... «Главным героем», конечно, стал я. Выяснилось, что я потерял политическое чутье, самовольничаю, не считаюсь с руководством. А главное — столкнул министерство со всеми: с ЦК, с Совмином, с Малым театром, с Погодиным (передавалась его фраза, сказанная сгоряча в адрес Министерства культуры: «Осиное гнездо»).
В течение многих лет после этого случая, встречаясь с Царевым в ВТО, я всегда чувствовал на себе его подозрительный взгляд.
У меня после этой истории, естественно, начались осложнения. Судя по всему, я был взят на подозрение — а не провокация ли вся эта история? Вскоре в театре появился странный тихий человек: редактор, назначенный без моего ведома. Просто и неожиданно возник человек. Ему поставили стол с телефоном у входа в мой кабинет. Услужливый, вежливый, со странной улыбкой, не покидавшей его вечно настороженного лица, он не отходил от меня ни на шаг. Его функции (видимые) были неясны не только мне — по-моему, и ему также. Но на службе он был все время, исчезал только с тринадцати до четырнадцати — на обед. Была у него какая-то папочка, с которой он никогда не расставался — даже на обед с собой забирал.
К осени обстановка осложнилась: у меня начались конфликты с Нифантием. Видимо, мое присутствие стало его тяготить, он стал звать меня «беспокойным соседом». Он, полковник, ни в коей мере не считался со мной: для него я был всего лишь «рядовой необученный», как было записано в моем военном билете. К тому же выяснилось, что я... беспартийный. Как это пропустил спецотдел кремлевской комендатуры, я объяснить не могу. То, что тучи стали сгущаться, я почуял по целому ряду признаков. По тому, как в разгар больших репетиций, когда на сцене и в зале находились десятки исполнителей, в самый неподходящий момент вдруг появлялся розовощекий завпост Альберт, преувеличенно бодро хлопая в ладоши. И вся постановочная часть, дружно топая, с ухмылками покидала зал. И по тому, как обнаглел мой сладкий редактор: теперь он часами торчал в кабинете начальника театра и со мной стал разговаривать небрежно, поигрывая неизменной своей папочкой.
И вот, неожиданно для меня, состоялось собрание работников Кремлевского театра. Когда я вошел в кабинет, то увидел своеобразный состав «творческого коллектива»: постановочную часть, пожарных, гардеробщиков, ответственных за порядок за кулисами... Совещание было долгим, и посвящено оно было мне. Меня громили: бравые пожарные; гардеробщицы, во главе со старшим гардеробщиком — пожилым красавцем Пал Палычем, человеком высокого роста, с безупречной военной выправкой; постановочная часть; ответственный за порядок за кулисами и даже — тихий, сладкий редактор.
Громили за все: что много репетиций, что людям нет времени отдохнуть, что после репетиций приходится убирать театр (!), что я задерживаю на репетициях постановочную часть, а у них обед, и люди хотят кушать, а тут этот Шароев... Пожарные были недовольны и репертуарной политикой театра, утверждая, что она неверно отражает социалистическое искусство... Поминали, конечно, и случай с Малым театром.
Я сидел и молчал, понимая, что представление разыгрывается по заранее подготовленному сценарию и что исход его запланирован не в кабинете Нифантия, он — лишь исполнитель.
От выступления я отказался, ибо странно было вступать в дискуссию о моей профессии с гардеробщиками и надзирателями за тем, чтобы на сцене не плевали на пол и не сморкались в кулисы. Единственное, что я сказал, — дал совет пожарным не тратить своих эмоций на обсуждение эстетических проблем, а зорко блюсти противопожарные законы в славных стенах Кремлевского театра.
Мой ответ вызвал всеобщее возмущение, и «общее собрание работников Кремлевского театра» приняло соответствующее постановление, где было сказано, что Шароев «поставил себя над коллективом». После собрания и «генерального разговора» с Нифантием я понял, что пора собирать вещи, да и терпению моему пришел конец.
Через несколько дней, когда я приехал в Кремлевский театр, дежурный солдат у служебного входа отобрал у меня пропуск и на мое недоумение ответил: «У меня приказ, я его выполняю». И показал мне строчку внизу пропуска: «По миновании надобности пропуск сдать». Вот таким способом объяснили, что во мне «миновала надобность» внутри кремлевских стен.
Отчего у генсека болел живот
От этого концерта я долго отказывался: у меня было какое-то недоброе предчувствие. Объяснить причину я не мог — никаких явных признаков грозы не ощущалось. Концерт как концерт, мало ли я их поставил в Кремлевском театре. Этот же был — заключительным концертом пленума Союза композиторов РСФСР, посвященного «легкой» музыке. Председателем Российского Союза был тогда Д. Д. Шостакович. Он меня и уговорил.
Я уже писал об этой истории — теперь, с появлением в печати новых материалов, можно рассказать подробнее.
«...От этого живот болит». Эту жалобную фразу изрек Генеральный секретарь ЦК КПСС, Председатель Совета Министров СССР Н. С. Хрущев. И сказал это во всеуслышание — увы! — по поводу концерта, главным режиссером которого был я... А тогда, в 1962 году, это было равносильно приговору.
Концерт композиторского пленума, посвященного «легкой» музыке, естественно, и строился на соответствующей музыке. В программе — произведения Д. Шостаковича, Т. Хренникова, А. Хачатуряна, И. Дунаевского, В. Соловьева-Седого, А. Новикова, В. Мурадели, Я. Френкеля, О. Фельцмана, А. Пахмутовой, А. Цфасмана. Звучало много популярных песен, исполнялись танцы, поставленные на музыку этих композиторов. По настоянию Д. Д. Шостаковича в концерт были включены и эстрадные номера: акробатика, фельетоны, комические куплеты, даже куклы.
Разножанровые номера были смонтированы в единое действо достаточно, скажем так, грамотно. Поверьте, это был один из лучших концертов в начале 60-х годов — радостный, красочный, динамичный. Талантливая музыка звучала в исполнении талантливых артистов. Это была настоящая высокая эстрада.
Кульминацией концерта стал джазовый эпизод в конце первого отделения. Три наших лучших джаза — Леонида Утесова, Олега Лундстрема и Эдди Рознера — были сведены в единую композицию. Оркестры были заранее «заряжены» на сценическом круге и выезжали один за другим, исполняя произведения советских композиторов. Это придало эпизоду динамику необычайную — никто не выходил и не уходил, занавес не болтался перед глазами зрителей, конферансье не бегал по авансцене, заполняя паузы. В финале эпизода шло перестроение джазов: возникали сверкающие в лучах софитов линии трубачей, следом за ними лучи выхватывали линию саксофонистов, тромбонов и наконец — ритм-группы. Световые акценты были в полном соответствии с музыкальными, и все это в сочетании с движением по кругу сливалось в многокрасочную картину. В заключение джазы объединялись в огромный оркестр, а на авансцене Леонид Утесов, Олег Лундстрем и Эдди Рознер пели знаменитую песню:
И тот, кто с песней по жизни шагает,
Тот никогда и нигде не пропадет!
Успех был колоссальный: зал скандировал, затем встал. Встали все и в правительственной ложе. Овации продолжались долго. В антракте со сцены невозможно было уйти — такой был всеобщий восторг и радость. Обнимались и целовались все— дирижеры, певцы, музыканты, постановочная группа. Особенно ликовали начальники, прибежавшие из зала, — как же, сам Хрущев стоял и аплодировал! Значит — ура!
Эстрада торжествовала. В душе у эстрадников всегда присутствует некая ущемленность — нет, не от «несерьезности» того, чем они занимаются, а скорее оттого, что к этому у многих выработалось несерьезное и даже пренебрежительное отношение. Но в тот вечер был праздник эстрады, победа! Да еще на самом высшем уровне! Счастливый Л. О. Утесов тут же, на сцене, расцеловав меня, торжественно вручил программу концерта с автографом, где написал, что дарит ее в память «об этом, столь значительном концерте».
Мы тогда еще не знали, какие пророческие слова написал Утесов. И мог ли я предположить, что в тот день, 19 ноября 1962 года, в моей судьбе произойдет резкий поворот, который перебаламутит мою жизнь, и в ней наступит черная полоса...
Ничто не предвещало плохого. За день до концерта на генеральную репетицию приехал Д. Д. Шостакович. Программа ему понравилась, и после просмотра он уехал с министром культуры РСФСР А. И. Поповым. Вскоре из министерства позвонили и потребовали меня.
Я приехал к министру и застал там Дмитрия Дмитриевича. Решался вопрос — приглашать правительство или нет. Я высказался «за» (эх, если б знать заранее.) А. И. Попов снял трубку «кремлевки», набрал номер и быстро передал ее Д. Д. Шостаковичу. Тот взял трубку и сказал: «Говорит композитор Шостакович. Здравствуйте. Мне необходимо побеседовать с Никитой Сергеевичем. Хорошо, я подожду». Последовала пауза. Затем вновь заговорил Шостакович: на другом конце провода был Хрущев. Дмитрий Дмитриевич пригласил его на заключительный концерт пленума композиторов. Тот обещал быть. Разговор был короткий — не более минуты. Шостакович разговаривал с Хрущевым спокойно, вежливо, не спеша, как-то даже буднично — в своей обычной манере.
В день концерта, примерно за два часа, зал был «поставлен на режим» — блокирован охраной: никого не пускали ни в зал, ни на сцену. Это был точный признак, что будет «сам». За несколько минут до концерта в ложе появился Хрущев, и с ним весь тогдашний Президиум ЦК. В ложе присутствовал и Т. Н. Хренников. Послали за Д. Д. Шостаковичем, который в это время находился на сцене — пришел подбодрить нас, хотя видно было, что и сам он волновался.
Я подал сигнал к началу концерта...
Второе отделение шло также с успехом. Но не обошлось, увы, без «накладки». Как всегда, непредвиденной, неожиданной и очень обидной. Так бывает: если над каким-нибудь концертом или спектаклем навис рок, он все равно принесет какие-нибудь несчастья.
Выступал акробат. Номер был построен на аппаратуре — акробат вставал на одну руку, делал стойку, выжимался и начинал подниматься на тонком штыре вверх. Очень эффектный был номер — с ним акробат выступал много раз и у нас, и за рубежом. Аппаратура никогда не подводила. Она подвела один-единственный раз — на концерте 19 ноября. Номер, как говорится, «не удалси». Тогда растерявшийся акробат схватил две большие гири, с которыми выступал, и почему-то побежал по всей сцене. Конечно, он был в шоке от испуга и с гирями в руках шарахнулся в сторону правительственной ложи. Тут уж переполошилась охрана. В зале начался шум. Но акробат, по счастью, в это время рысью направился за кулисы.
Конечно, все это было замечено в ложе, и через несколько минут последовал запрос: «Что произошло?» Я ответил, что не сработала аппаратура. А что еще можно было сказать? Что так задумано режиссером и это основная его «находка»? Через несколько минут — вновь посланец: «Как себя чувствует артист? Не получил ли он травмы?» Отвечаю, что не получил, хотя и расстроен неудачей. Еще через несколько минут: «Раз артист не виноват, никаких санкций к нему не применять». Хорошо, говорю, санкций не будет. А сам думаю, какие санкции теперь применят ко мне? Ведь я отвечаю за все.
Но концерт продолжался, хотя прежнее победное настроение после успеха джазов было уже сильно испорчено. Кончился концерт. Судя по всему, трагикомический эпизод забыт. На сцену пришел Д. Д. Шостакович — благодарить всех. Я ему ответил: «Если бы не эта дурацкая накладка с гирями!» Шостакович дружески улыбнулся, успокаивая: «Не обращайте на мелочи внимания». Я было заикнулся, что на эти мелочи, увы, обратил внимание генсек, но Шостаковича отвлекли, на том разговор и закончился.
Ночь я провел бессонную, заснул только под утро. Меня разбудил звонок министра. «Ты прессу читал? — кричал он в трубку. — Приезжай немедленно! Давай, Шуруев!» (Это означало — прекрасное настроение.)
Приехал к министру — там праздник. Меня встретили аплодисментами и поцелуями, читали вслух отзывы в центральной прессе: «Они были разными, песни, которые звучали в этот вечер. Среди них — проверенные временем, всегда молодые, всегда зовущие вперед мелодии И. Дунаевского, песни В. Соловьева-Седого, набатным призывом звучащие произведения В. Мурадели... Их донесли до слушателей популярные коллективы — оркестры Л. Утесова, Э. Рознера, О. Лундстрема, Ю. Силантьева. ...Ощущение свежести, новизны того, чем порадовали слушателей композиторы России, было главным для всей программы концерта... Руководители партии и правительства тепло поблагодарили Союз композиторов, Т. Н. Хренникова и Д. Д. Шостаковича за хороший концерт и пожелали музыкантам новых творческих успехов».
Славословие шло во всей прессе. Особо отмечался джазовый эпизод. Нам было чему радоваться: эстрадный концерт стал крупнейшим событием в культурной жизни! Сгоряча министр культуры СССР Е. А. Фурцева, которая тогда была членом Президиума ЦК, издала приказ об обеспечении лучших джазов импортными инструментами (чего десятилетиями безуспешно добивались музыканты).
Но события повернулись нежданно-негаданно. Через две недели Хрущев посетил в Манеже выставку «30 лет МОСХа». Там произошел общеизвестный скандал. «Литературная газета» (от 5.VII.1989 г.) процитировала, как Хрущев «делился впечатлениями» от приобщения к искусству:
«...Вот это — скульптура? Я их спросил — не педерасты ли вы? Педерастами бывают в 10 лет, а вам сколько? (Видно, он перепутал педерастов с онанистами. — И. Ш.) Посмотрите на автопортрет Б. Жутовского. Если вырезать в фанере дыру и приложить к этим портретам, я думаю, что 95 процентов сидящих здесь не ошибутся, какая часть тела будет в дыре на картине Жутовского... (Именно на таком интеллектуальном уровне шел разговор! — И. Ш.) Неизвестный (Эрнст — И. Ш.) смотрит свысока. Он создал, а мы думаем, что это? Хочется плюнуть, товарищ Неизвестный... Вот позвал, (на концерт — И. Ш.) Шостакович. Три джаза — живот болит. А я хлопаю... Когда джаз — колики».
У Солженицына в «Бодался теленок с дубом» эта же сцена рассказана несколько по-иному. У него Хрущев говорит: «От музыки Шостаковича — колики, живот болит... Весь американский джаз — от негров». Александр Исаевич записал не совсем точно, и здесь несколько смещена взаимосвязь трех слагаемых: Шостакович, джаз, хрущевские колики живота. Но «джентльменский набор» — тот же.
Солженицын очень точно угадал начало общего «наскока» на культуру: «...1 декабря подстроили в Манеже выставку художников недопустимых направлений (в том числе и работы 20-х годов!) — и дружески повели Хрущева показать, до чего вольность искусства доводит. Хрущев, конечно, в простоте рассвирепел — и тут же его уговорили на образумление деятелей искусства, хоть завтра, оставалось дело за организацией»[5].
Начался разгром «формализма» в изобразительном искусстве, а затем, как неизбежное следствие, под горячую руку попала вся культура. Гроза разразилась на встрече с деятелями литературы и искусства 3 марта 1963 года. На той злополучной встрече Хрущев выступал с большим докладом. В частности, он сказал: «...Нельзя считать нормальным наметившееся увлечение джазовой музыкой и джазом. Не следует думать, что мы противники любой музыки для джазов, разные бывают джазы и разная бывает музыка для них. ...Но бывает и такая музыка, от которой тошнит, возникают колики в желудке». (О состоянии своего желудка он уже говорил ранее, в декабре, на встрече в Манеже. Этот выразительный образ, видно, полюбился генсеку, что он его употребил повторно.)
В своих воспоминаниях А. Аджубей поведал о том злополучном концерте. Правда, в его изложении есть ряд неточностей: заключительный концерт композиторского пленума он называет почему-то «итоговым концертом художественной самодеятельности» (!), а Д. Д. Шостаковича — «председателем жюри смотра художественной самодеятельности» (!). Небольшой нюанс, но показательный: как можно напутать даже в таких простых делах?! «Концерт начался парадом-алле сразу пяти джазовых оркестров (их было всего три — И. Ш.), гремевших так, что едва выдерживали барабанные перепонки. Хрущев досидел до конца. Шостакович не знал, что такое начало концерта (это был конец первого отделения — И. Ш.) могло показаться ему своего рода вызовом. (Какие, однако, бывают неожиданности! Мы с Д. Д. Шостаковичем делали концерт, стремясь показать все разнообразие «легкой» музыки, созданной нашими композиторами, а оказалось, что мы сотворили «вызов» Хрущеву. — И. Ш.)... Желание немедленно обратить недоразумение (?!) в поучительное предупреждение (!!) привело к тому, что джазы были изъяты из музыкальной жизни» (!!!)[6].
Вот так просто объясняет хрущевский зять эту некрасивую историю спустя почти три десятилетия.
Генсеку услужливо подсказывали «изъяны» и умело направляли его неуемный темперамент на «идеологические искривления» в литературе, кино, музыке. Намекнули, что и джазовый концерт в Кремле — тоже буржуазная вылазка в советской музыке и что «за это надо наказывать».
Первые признаки чего-то недоброго я почуял, когда в министерстве в разговорах со мной появились сочувственно-снисходительные интонации с подтекстами: «Да, Шароев, опасно с тобой — не обижайся! — иметь дело. Подведешь ведь!» Было ясно, что что-то назревает. История с концертом медленно, как ржавчина, разъедала «руководителей культуры» — ведь они тоже «проглядели»! Поэтому задача у них была проще простого — отмыться, откреститься, найти виноватого.
Хрущевские эскапады стали сигналом к началу целой кампании против нашей культуры. Под колесо правительственной телеги, в 1963 году уже покатившейся под откос, попали Д. Шостакович, Е. Евтушенко, А. Вознесенский, Э. Неизвестный, М. Хуциев и многие-многие другие, среди которых был и я, «подсунувший» руководству страны «идеологическую бомбу замедленного действия», да еще завезенную с Запада.
Взялись тогда за меня круто. Но гадкие дела не делают в открытую. Разными тайными путями до меня дошла иезуитская фраза, прозвучавшая в одном «высоком» кабинете: «Спешить с ним не надо. Сделать следует аккуратно». Я понимал, что все предрешено, но сдаваться не собирался — был уверен (как уверен и сейчас), что никакой моей вины нет, а есть нелепое стечение обстоятельств, происходящее от высокой степени всевластной некомпетентности.
Но я был бессилен что-либо изменить: куда бы ни обращался, меня нигде не принимали. Для начальства всех уровней я стал фигурой одиозной. В обоих министерствах культуры меня крыли почем зря, дружно «поливали» газеты. Хочешь не хочешь — я чувствовал себя почти «героем дня».
В Московский театр эстрады, где я тогда был главным режиссером, пришла специальная комиссия — проверять мою деятельность. На очередной коллегии в Министерстве культуры СССР уже собирались обсудить, что именно я виноват во всех многолетних «ошибках» эстрады. В знак протеста я не явился на коллегию, что еще подлило масла в огонь, распалив Фурцеву — дама она была самолюбивая. В результате — я был выгнан из театра.
Как жить, чем кормить семью? Началось хождение по мукам. На работу меня никуда не брали: ни в эстраду, ни в филармонии, не давали нигде постановок. Жить было не на что. И тогда мы с моей мамой, одной из создательниц советского телевидения, его первым генеральным директором и главным редактором, стали продавать семейный старинный хрусталь, редкие книги. Боже, каких книг по истории костюма я тогда лишился! Цены им не было...
В те тяжелые месяцы я узнал, что такое дружба и чего стоят «приятельские» отношения: только несколько человек остались верными друзьями. Они давали мне изредка подработать: И. Попов, который был тогда заместителем главного редактора «Советской культуры», давал возможность писать в газете, правда, под псевдонимом. Прежние знакомцы со мной не здоровались, делая вид, что не заметили. И только однажды, у сада «Эрмитаж», с противоположной стороны улицы кинулась ко мне белокурая стройная красавица, обняла, расцеловала и сказала как-то удивительно тепло: «Ким, держитесь! Все еще наладится, поверьте мне!» Это была Маша Брунова, жена Бориса, с которым нас связывает многолетняя дружба. В тот день мне показалось, что, может быть, и не все так черно в жизни...
И Вано Ильич Мурадели отнесся к этой «истории» неожиданно для меня: звонил, приглашал в гости, играл свои песни. И однажды спросил: «От тебя на улицах друзья отворачиваются? — И добавил: — Я все это уже проходил, когда вышло Постановление ЦК о «Великой дружбе». Со мной тоже никто не здоровался. Но знаешь, — он хитро прищурился, подмигнул, — теперь со мной все здороваются».
В Москве для меня работы не было. Я не обижался на людей, понимал — они просто боятся. Ведь я «погорел» на таком уровне, выше которого не было: «сам Хрущев» брякнул что-то об «идеологической диверсии». Хорошо еще не посадили. А ведь могли. И делали это не раз. С другими, правда.
Я делал все, чтобы про меня забыли. Но кто-то не забывал: мое дело, судя по всему, держали «на контроле». И вот однажды вестником несчастья возник у нас в квартире участковый. Мы с ним были хорошо знакомы ряд лет. Он долго мялся, что-то мямлил, прежде чем спросил, где я работаю. Выяснилось, что нигде. Тогда он сказал, что у него есть предписание: на основании Постановления Верховного Совета о тунеядстве я подлежу высылке из Москвы «за сто километров».
На этом пришел конец моей наивности. Я понял, что спрятаться не удалось. Тогда я надел свои правительственные награды, взял удостоверение о присвоении почетного звания и отправился в 10-е отделение милиции. Мне повезло: за столом начальника сидел боевой офицер, полковник, весь в орденах. Он-то и спас меня. Сожалею, что в горькой суматохе тех дней не запомнил его фамилии. Я ему все откровенно рассказал. Порывшись в бумагах и найдя мои, он ответил: «Да, у меня есть предписание выселить вас из Москвы как тунеядца. Но давайте договоримся — я вам дам месяц, устройтесь на работу, хоть дворником. Тогда от вас отстанут». Я ушел от него в изумлении, что хоть в милиции есть хорошие и порядочные люди.
За этот месяц с помощью друзей удалось кое-что сделать: помог драматург А. Липовский (мы вместе делали спектакль «Пришедший в завтра»). По его рекомендации меня приняли в Московский комитет драматургов — к тому времени у меня уже были либретто, сценарии, пьесы. Торжествуя, я явился в милицию и предъявил справку. Отныне у меня было право нигде в штате не работать.
С трудом, но удалось остаться москвичом. Но здесь вокруг меня уже образовался вакуум. В довершение от меня ушла моя тогдашняя жена, сказав напоследок, что ей горько и стыдно за меня — неудачника. (Я не помню зла на нее, царство ей небесное.) Это было последней каплей. И я решил уехать из Москвы.
Больше года кочевал по стране, ставил концерты в российской провинции, в Узбекистане. Наконец меня «пустили» в Воронежский музыкальный театр поставить оперу А. Флярковского «Дороги дальние», либретто которой написали мы с Ю. Чулюкиным и Л. Дербеневым. В этом городе меня приветили — еще помнили Воронежскую декаду в Москве, художественным руководителем которой я был в 1958 году. В Воронеже жил К. Массалитинов, работал его хор, с которым мы были в дружбе.
Спектакль «Дороги дальние» получился, и весной 1964 года моя фамилия вдруг опять появилась в центральной прессе, где меня вновь хвалили. После всех переживаний это воспринималось как мираж...
«Тринадцатый»
Был один очень хороший артист-чтец — назовем его Н., которого считали «тринадцатым», то есть приносящим несчастье. И, как это ни странно, основания для этого были. Он (конечно, невольно) повинен в том, что все тексты, произносящиеся со сцены КДС на концертах в «период застоя», стали заранее записывать на пленку, и в концертах звучала, как правило, фонограмма.
...Дело было в 1967 году. Я ставил в КДС заключительный концерт фестиваля искусств РСФСР. В прологе Н. должен был читать соответствующие стихи, утверждавшие, что у нас — все отлично, а будет — еще лучше.
На генеральной репетиции все прошло хорошо. Н. пламенно, страстно (тем и славился) отчитал свой монолог «высокой» комиссии, все понравилось. На следующий день — концерт, присутствуют все тогдашние руководители. Н. читает, доходит до середины и... останавливается. Молчит секунд 10—15, и... начинает сначала. Стоя «на капитанском мостике» у режиссерского пульта, я посмотрел вниз, на сцену, и увидел полминистерства: они в панике примчались из зала. Перегнувшись через перила, говорю им:
— Это шок. Он сейчас дойдет до того же места и снова...
В ответ снизу взметнулся лес рук: начальство яростно грозило мне кулаками — мол, сглазишь!
Н. дочитал до злополучного места и... снова замолчал. Потом, в ужасе глядя в огромный темный зал, вдруг сказал в микрофон: «Простите!» Пошарил по карманам, достал бумажку с текстом и нервно дочитал стихи по бумажке. Владислав Соколов, стоявший за дирижерским пультом в оркестровой яме, говорил мне после концерта:
— Я думал, что меня хватит инфаркт, — так это было страшно!
Большой концерт шел долго, и к его концу инцидент, случившийся в прологе, «высокие гости» забыли.
После концерта, по традиции, в КДС был официальный банкет.
Министр культуры Е. А. Фурцева прислала за мной помощника. Когда я был доставлен «к столу», предложила тост за меня, добавив, кокетливо улыбаясь (она и в возрасте была красива, обаятельна и сексуальна): «А в будущем, на тот случай, надо сажать суфлера — так будет спокойнее». Я был «на нерве» после концерта и ответил, не сдержавшись: «А кто может знать, когда будет именно тот случай?» У фурцевской свиты вытянулись физиономии. Кто-то предостерегающе пнул меня в бок. Я же добавил еще: «Да суфлера там и сажать негде — в КДС нет суфлерской будки. А если суфлер будет, надрываясь, орать из оркестра, то его голос микрофоны разнесут по всему залу». Последовала многозначительная пауза. Фурцева молча внимательно изучала меня, потом все-таки предложила выпить «за здоровье строптивого режиссера», как она сказала с улыбкой. Тут же все поспешили рассмеяться, довольные, что инцидент исчерпан.
Но вскоре ею был издан приказ: отныне все тексты, произносящиеся со сцены КДС, записывать и пускать только в фонограмме.
Это стало законом. Он продержался 20 лет — до периода «перестройки и гласности», когда был отменен. В общей «перестроечной» суматохе, когда все, что было прежде, лихорадочно отменялось во всех областях, отменились и чтецкие фонограммы: это было признано чуть ли не «антиперестроечным» явлением и обманом зрителей (!).
Нелепость же и этой очередной кампании заключалась в том, что в КДС живой звук со сцены вообще не идет в огромный зал, его там не услышат. Даже оркестры звучат через микрофоны и динамики, а тем более — голос артиста. Отличить фонограмму от живого исполнения можно только по одному признаку: в фонограмме ошибок и оговорок не бывает, а в живом исполнении — довольно часто.
Я помню, когда на концерте в КДС, уже в 1989 году, чтец оговорился, запнулся и продолжал читать дальше по книге, которую я посоветовал ему на всякий случай взять с собой, начальство пришло в восторг: «Сразу видно, что не фонограмма, сам читает, живой!» Чему радовались — ошибкам, оговоркам, нарушающим художественное впечатление?..
Актеры за двадцать лет привыкли читать в КДС под собственные фонограммы, и им было значительно легче на больших концертах, где всегда исполнители волнуются особенно сильно.
...После «того» случая чтеца Н. на концерты «высшего ранга» не приглашали. В 1975 году я уговорил руководство пустить его в один такой концерт. Меня предупреждали — «он тринадцатый», «он приносит несчастье», «опять текст забудет». Но я успокоил всех — на этот раз мы запишем фонограмму, и все пройдет нормально.
Генеральная репетиция «на этот раз» прошла хорошо. В финале на трех широких экранах шла красочная хроника, а на авансцене пламенно и страстно наш Н. читал композицию по стихам Маяковского. Читал и в самом деле хорошо. Все его благодарили, поздравляли.
На следующий день концерт в КДС шел успешно: и выстроен он был интересно, и исполнители участвовали выдающиеся. До конца программы оставалось четыре минуты. Засветились три экрана, и красивый голос Н., удесятеренный фонограммой, заполнил огромный зал. Я ликовал — уже пошел финал, все позади: волнения, привычное ожидание несчастья.
Полминуты до окончания, и вдруг... одновременно отключились все три экрана, и на огромной сцене темнота... А фонограмма продолжалась, и Н. на авансцене патетично «читал» стихи. Темнота «повисла» не более чем на 15 секунд: я сразу же дал команду включить четвертый проектор, (Перед самым началом концерта я попросил зарядить широкоформатную пленку с изображением огромных знамен в разных планах. Почему я это сделал — объяснить трудно, но, очевидно, какое-то недоброе предчувствие точило мою душу.)
После концерта состоялось экстренное заседание, где мне все пеняли: «Мы же вас предупреждали — не берите Н., он же «тринадцатый!» Начальство, среди которого все были членами партии, в панике искали причину в каких-то мистических силах, обвиняли Н., не знавшего-не ведавшего, причиной какого переполоха он стал. Увы, и «большое» руководство заметило «накладку» и дало распоряжение расследовать причины.
Дальше началась фантасмагория, весьма характерная для тех лет. Комиссия Министерства культуры СССР решила, что виновен во всем... я: это по моей вине произошел «перегруз» электроэнергии, и в результате — замыкание.
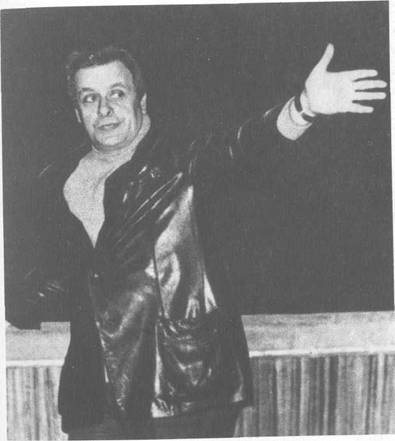
Вторая комиссия из Минэнерго — подтвердила выводы первой: оба министерства, конечно, сговорились, заняли «единую позицию» и дружно нашли «мальчика для битья». Напрасно я объяснял, что я не электрик, не киномеханик, к технике не имею никакого отношения, что обвинять меня в отказе техники так же нелепо, как винить электрика в идейно-художественных изъянах концерта. И хотя всем было ясно, что режиссер тут вообще ни при чем, обе комиссии стояли насмерть. Я лишний раз убедился, к какому откровенному цинизму могут приходить ведомства, сколько могут нагородить лжи, спасая собственную шкуру.
Разозлившись от такой ведомственной подлости, я обратился с протестом в ЦК партии, настаивая на третьей — объективной — комиссии. Больше обращаться было некуда — все инстанции пониже оказались глухими к моим воззваниям.
В ЦК мне помогли Ю. К. Курпеков и М. Н. Иванов. Отдел культуры вмешался в эту непристойную историю: была созвана третья комиссия, независимая от двух министерств и администрации КДС. Специалисты «перешерстили» все здание дворца и в подвале нашли все-таки причину. Оказывается, там была специальная аппаратная, где у автомата, регулирующего нагрузку электроэнергии, постоянно находился дежурный. В его обязанности входило, в случае перегрузки, включить аварийную систему. И именно в тот злополучный момент, когда следовало просто нажать кнопку, дежурный отсутствовал — вышел «на минутку». Вот и вся причина. Я до сих пор с благодарностью вспоминаю Зою Петровну Туманову — заместителя заведующего Отделом культуры ЦК, по инициативе которой была организована третья комиссия.
Вот и не верь в старинные театральные приметы — ведь Н. и в самом деле оказался «тринадцатым»...
Цирковое 50-летие СССР
В 1972 году страна готовилась встречать 50-летие образования СССР. Со всего мира были приглашены делегации коммунистических и социалистических партий во главе с первыми лицами. Готовилась и разнообразная культурная программа. Почему в протокол празднества было включено посещение руководством страны и зарубежными гостями именно циркового представления, мне и сегодня неясно. Очевидно, для убедительной демонстрации грандиозного развития культуры во всех союзных республиках.
КРЕМЛЕВСКИЕ КОНЦЕРТЫ

Уникальное созвездие. Борис Брунов наслаждается пением Аллы Пугачевой, Иосифа Кобзона, Леонида Утесова и Людмилы Зыкиной
В те годы я официально был «придворным» режиссером, и потому мне было поручено правительственное задание организовать все на «кремлевском» уровне. Не поставивший до этого ни одного циркового представления, я был вынужден, скрепя сердце, отправиться в Новый цирк на Ленинских горах, чтобы сделать спектакль... «отвечающий серьезности момента...».
В этом спектакле должны были участвовать артисты из всех 15-ти союзных республик. Тогда, задолго до теперешней оголтелости, еще «не проснулось национальное самосознание народов», еще не палили друг в друга азербайджанцы и армяне, не было кавказских войн грузин с осетинами и абхазцами, не трещали автоматные очереди в Вильнюсе и Риге, не бежали в Россию от «братской дружбы» люди, виноватые в своем «русскоязычии», не бродили по Москве толпы этих людей с тревожными глазами... Трудно поверить, но то было время, когда формула «дружба народов» не стала такой издевательской, как ныне.
Но — о цирке. Объясняться в любви к цирку с детских лет не буду — это неоригинально. Почему-то принято клясться в этой обязательной любви — будто оправдываясь в чем-то. Признаюсь — я в детстве цирк ненавидел: мне до слез жаль было зверей, над которыми издевались дрессировщики.
Теперь же мне было интересно окунуться в «тайны» цирка — тем более, что незадолго до этого я снял два фильма о нем и вкус к цирковым жанрам у меня уже появился. Но согласившись поставить спектакль в Новом цирке, я, однако, предупредил, что делаю это в первый и последний раз. И слово свое сдержал.
Я пришел в Новый цирк со своими гитисовскими учениками: Андрей Николаев стал моим сорежиссером, Жанна Смелянская и Иосиф Топоровский — режиссерами спектакля.
Андрей мне был необходим, потому что цирковой жизни и жанров я по-настоящему не знал. А это особый мир, со своими сложными и для постороннего глаза не всегда видимыми взаимоотношениями.
Цирк жесток. В этом я убеждался неоднократно. И жестокость эта определена самими условиями работы. В театре люди жизнью не рискуют. А в цирке — постоянно, ежедневно, до еще по нескольку раз: в субботу — дважды, а по воскресеньям — трижды (в зависимости от количества представлений). И воздушные акробаты, и дрессировщики, и канатоходцы... Это — будни цирка, его повседневная жизнь, «производство». Здесь без железной дисциплины и ответственности — невозможно. Поэтому и требования к уровню профессионализма — предельные.
В театре можно проработать всю жизнь и профессионалом не стать. И этого не заметят. А в цирке непрофессионал — либо сам разобьется на третьем же представлении, либо по его вине сильно покалечатся или даже погибнут другие.
Именно этот постоянный риск накладывает отпечаток на всю цирковую жизнь. Путем естественного отбора здесь складывается особая каста, и в эту семью «чужак» не проникает. «Цирковая семья» — явление особое, замкнутое, живущее по своим законам.
Я убедился, что есть цирковое братство, где люди помогают друг другу в беде, защищают, приходят на помощь. И это считается нормой — никто этого не афиширует. Но и жестокости достаточно. Я сам видел во время съемок в старом Московском цирке сцену, запомнившуюся мне на всю жизнь. Руководитель номера, стоя на манеже с шамбарьером (огромным хлыстом, от которого шарахаются даже цирковые лошади) в руке, другой держал лонжу, которой была прикреплена к трапеции молодая женщина. У нее не получался трюк. Тогда руководитель несколько спустил на лонже артистку и нанес ей удар шамбарьером. Потом — еще. Она молчала. Боль от ударов, думаю, страшная. Но артистка не кричала, не плакала, а молчала, ожидая новых ударов. Руководитель потребовал повторить трюк. Трюк получился. Тогда он спустил ее на манеж и продолжал репетировать с другими. Артистка тихо исчезла с манежа — очевидно, отправилась рыдать в актерскую уборную. При этой сцене присутствовало много людей — артисты, униформисты, осветители. Никто не вмешался, не сказал ни слова. Избитая была женой руководителя, а здесь уж — права у «хозяина» особые.
Притчей во языцех стал один из директоров Нового цирка, пришедший из «благородных» искусств — оперы, балета. Он, увидев, как Юрий Ермолаев на репетиции стегнул несколько раз шамбарьером заупрямившуюся лошадь, выбежал на манеж, крича в исступлении: «Что вы делаете? Вы, советский дрессировщик? А где же гуманное отношение к животным?»
Это — не цирковой анекдот, это — быль.
Помню, во время съемок фильма «Представление начинается», начитавшись всякой розовой чуши о гуманизме советской дрессуры, я выуживал у Валентина Ивановича Филатова для интервью тайны его «гуманного» метода дрессировки. Он смотрел на меня иронически, уверяя, что кусок сахара и железный ломик — лучшее средство воспитания медвежьей молодежи. И хохотал при этом. А отхохотавшись, пояснил: «Пойми. Это — зверь. Он от природы кровожаден. Он — хищник. И его волю надо подавить. Не подавишь — он подавит тебя. И еще скальп снимет».
На репетициях я потом не раз видел «самый гуманный метод советской дрессуры», осуществляемый на деле ассистентами Филатова — мускулистыми крепышами с громадными кулаками. Что это были за ребята, я убедился, когда на съемках фильма произошел несчастный случай.
Мы снимали эпизод в форганге — коридоре, ведущем к выходу на манеж. Целую группу медведей — штук 7 или 8 — ассистенты привели и посадили на большую цепь, прикрепленную к стене. Между зверями, примерно метрах в полутора от них, должны были проползти двое мальчишек — героев фильма «Представление начинается». По сценарию это был немудреный и забавный сюжет: эти двое ранним утром тайком пробирались в цирк. Прячась от старого капельдинера (его играл король советского киноэпизода Георгий Баронович Тусузов), мальчишки облазили весь цирк, видели все репетиции и подружились с самым добрым «образом» цирка — клоуном. И был это, конечно, Олег Попов. Добрый клоун доставал своим юным друзьям пропуск на вечернее представление, и вечером они, гордо показывая пропуск Тусузову, проходили на свои места. Появлялся шпрехшталмейстер и торжественно объявлял: «Представление начинается!»
На этом фильм заканчивался.
Такой сценарный «ход» позволял увидеть не парадный цирк вечернего представления, а «изнутри», его «тайны»: репетиции, подготовку номеров, закулисную жизнь...
...На съемке, когда медведей прикрепили к цепи, зажгли диги, я скомандовал «Мотор», и в кадр поползли по ковру мальчишки. И вдруг... ослепленная лучами дигов, грозно рыча, поднялась во весь рост громадная медведица. Напряглась — и выдернула из стены болт, на который крепилась цепь. Миг — и звери оказались на свободе. Они бросились друг на друга, рыча и кусаясь. О ужас! — между катающимися клубком мохнатыми великанами оказались наши юные артисты. Филатов не растерялся. Он первым кинулся к зверям, схватил одного медведя, потащил в сторону. Следом за ним рванулись ассистенты. Вот тут-то я и убедился в силе кулаков этих Алешей Поповичей. Подняв за ошейник медведей, они кулаками били прямо в нос зверей (это у медведя самое чувствительное место). Те ошалели от боли. В это время мы вытащили из этой свалки мальчишек. Съемку в тот день пришлось отменить, так как В. И. Филатов запретил трогать зверей: они понервничали и обиделись — их ведь побили!
Цирковое «производство» всегда было частным: артисты на свои деньги делали костюмы, дорогостоящий реквизит, без которого номера не будет; дрессировщики на свои деньги покупали зверей, сами воспитывали их, часто — у себя дома. Мне рассказывал об этом сам Филатов: у него все медведи были его собственностью, и весь медвежий реквизит — тоже. Поэтому в цирке хозяин аттракциона всегда находится на особом положении — он самостоятелен больше, нежели артисты в других видах искусства. Он именно хозяин.
В. И. Филатов однажды рассказал мне, как его обидела министр культуры Е. А. Фурцева, а он (в знак протеста) собрал своих зверей, погрузил их в клетки-вагончики и увез вместе с реквизитом к себе на дачу. А заодно и оформил в спешном порядке пенсию. Когда же к нему на дачу (по поручению Фурцевой) приехал ее заместитель, Валентин Иванович стал играть в старую цирковую игру — «в дурачка»: продемонстрировал пенсионную книжку, объяснил, что устал и решил закончить артистическую карьеру. А звери пусть отдыхают на свежем воздухе — они тоже устали, сердешные. В «верхах» все были в панике — предстояли гастроли цирка в Японии. Филатовский «Медвежий цирк» был гвоздем программы, и импрессарио делал главную ставку на него.
Много усилий пришлось потратить министру, чтобы дрессировщик сменил гнев на милость: в конце концов его уломали.
Возможно, что это и цирковая легенда, но я сам слышал ее от хозяина этого аттракциона.
...Сценарий представления, которое я ставил к юбилею в Новом цирке, написали Сергей Михалков и Олег Левицкий. Хорошо и остроумно задуманный, он давал возможность создать большое и красочное зрелище. Хотелось сделать спектакль с логически развивающимся действием, где все номера взаимосвязаны, словно вытекая один из другого.
Я взял за основу эйзенштейновский «монтаж аттракционов», позволявший выстроить действие циркового представления как единое целое. Сделать это позволяла богатая машинерия Нового цирка: и опускавшийся вниз, в трюм, манеж; и пять экранов, которые мы соорудили под самым куполом цирка; и громадная движущаяся лестница, идущая от манежа к площадке высоко над головами зрителей.
Особое значение придавалось музыке. В этом спектакле зазвучали наконец-то не только традиционные цирковые галопы и фоновая музыка для номеров, а музыка Тихона Хренникова, Родиона Щедрина, Бориса Александрова. И цирк от этого нисколько не проиграл, а напротив — только выиграл.
Мой сопостановщик, клоун Андрей Николаев, выступал и как главный герой спектакля. Кроме того, он «выступил» еще и как поэт и композитор, написав «Песенку клоуна». Но самым необычным было другое.
Сначала надо кое-что прояснить. Маска и клоун — неразделимы. Клоунская маска как выражение сущности образа закрепляется за артистом навсегда. К примеру, невозможно представить Олега Попова без носа картошкой, белобрысого парика и — самое главное — без кепки в «таксишную» шашечку. Или Карандаша — без котелка, костюма а ля Чаплин и при нем — верной Кляксы, ставшей неотъемлемой составляющей его клоунского образа. Уговорить клоуна выйти на манеж без своей маски — безнадежное дело. Николаева же удалось уговорить сделать это, и пролог спектакля приобрел иные акценты. Благодаря «игре в игру» Андрей «держал» театральное действие. А сделано было следующее.
Андрей выходил, одетый в строгий черный смокинг, с обычным (не «клоунским») ликом, и как цирковой конферансье — шпрехшталмейстер объявлял два номера. А затем, стоя на манеже, начинал петь свою «Песенку клоуна». И преображался прямо на глазах публики: надевал смешную нашлепку на нос, на голове появлялся большой берет с морковкой, а смокинг, совершив в воздухе сальто, — выворачивался наизнанку, превращаясь в клоунский костюм. Так элегантный Андрей Николаев становился клоуном Андрюшей. Следом за этим он сразу делал смешную репризу, заявляя о своих клоунских правах. Зрители мгновенно принимали игру и восторженно встречали каждый выход Андрюши на манеж. В дальнейшем он вообще приобретал не совсем свойственные клоуну функции: помимо своих реприз, интермедий, он исполнял роль радушного хозяина, встречающего прибывающих на праздник друзей со всей страны.
Не обошлось и без курьезного случая. На одно из представлений прибыл секретарь райкома партии, на территории которого находился цирк. Увидев на манеже Николаева без клоунской маски, он дал «цэу» — убрать «сионистский профиль» у клоуна: видимо, решил, что это мы «привесили» Андрею такой солидный нос, а не природа. После спектакля расстроенный директор цирка передал нам указание «о немедленной переделке носа». Андрей шумел, кричал: «У меня папа революцию делал, в Первой Конной воевал, и у него был такой же нос!» Но мы пожалели директора — он был в таком шоке, что не успокоился, пока Андрею не стали подтягивать нос и делать его курносым.
Когда премьера состоялась, на нее откликнулась пресса. Мне трудно это объяснить, но многие центральные газеты, журналы писали о спектакле в Новом цирке. Может быть, потому, что он и в самом деле получился и в нем удалось выявить некоторые закономерности, ранее не замечаемые... Через три месяца после премьеры все еще шли восторженные рецензии. Однако запомнилось другое — как спектакль был воспринят изнутри, цирковыми властями.
...После вечерней генеральной репетиции состоялось обсуждение. Комиссию прислало управление «Союзгосцирк», и возглавлял ее парторг — человек с восточной фамилией и какими-то скользящими глазами. С. В. Михалков, посидев немного, поскучал и ушел — видимо, ему стало тошно от ахинеи, которую он услышал. Нам же пришлось досидеть до конца — почти до трех часов утра. Погром спектакля был полный, причем — цирковой, шумный. И в «словесах» выступавшие не стеснялись: все богатство и разнообразие русского языка было здесь продемонстрировано. Громче всех выступали какие-то странные люди в возрасте, со склеротичными рачьими глазами. Как мне потом объяснили, это были режиссеры «Союзгосцирка» — в основном пенсионеры, артисты оригинального жанра. Сами они не ставили спектаклей, и их «режиссура» заключалась в том, что они только принимали программы и номера. Эти «режиссеры» и орали громче всех, что нарушены цирковые традиции.
Ругали нас за все: за общую композицию спектакля, за пролог и финал, за кинокадры, за обилие музыки, за цветовое решение, за излишнюю театрализацию... Пролог «грызли» за то, что он чересчур «заметен» и именно поэтому... плох, что он будет мешать номерам, перебивать им успех. А посему — отменить его или в корне переделать в обычное цирковое антре. Досталось и финалу. В самом конце спектакля шел номер под куполом цирка — «Галактика». Он был необходим именно здесь, как романтический образ героизма и силы человека. На обсуждении выяснилось, что «Галактика» не может идти перед финалом, ибо... убивала его. Получалось нечто замкнутое: пролог убивал номера, номер убивал финал. Сплошной криминал, а не спектакль!
Гнев цирковых знатоков вызвало и драматургическое построение программы. Они утверждали, что действие выстроено в таком стремительном темпе, «что нет возможности продохнуть», «тебя все время подхлестывают, подгоняют». Возмутила их даже... музыка в спектакле. Оказалось, что ее слишком много.
В самом деле музыки было много: она звучала не только как фон в номерах, но у нее была и более самостоятельная функция: связывать один номер с другим. Музыкальные эпизоды служили как бы прелюдией к ним. К примеру, пока готовилась аппаратура для «Галактики», на площадке над форгангом лучи высвечивали трио — скрипач, виолончелист и пианист — и звучало лирическое интермеццо, настраивающее зрителя на определенный лад. Прием этот использовался во время спектакля неоднократно.
Но наибольший гнев «специалистов» вызвал Андрей Николаев. Даже не гнев — то был неподдельный ужас: разоблачить маску клоуна, попрать святые цирковые законы! Андрея стращали, предрекали полный провал, призывали выходить, как обычно, — сразу в образе клоуна. Правда, все сошлись в одном: такое сделано впервые в истории цирка. Тогда — тем более нельзя! Ведь не случайно никто из клоунов на это не решился. И потом еще одно святотатство — в нашем спектакле клоун ни разу не терял на манеже штанов!
На Андрея жалко было смотреть. Уникальный артист, он привык, что с ним все «носятся», а тут впервые он оказался в режиссерской шкуре. Когда же на него «навалились» еще и как на артиста, пришлось прибегать к валидолу: «группа товарищей» довела его до сердечного приступа.
Единственное, что понравилось нашей «грозной» комиссии, — сделанная по правительственному заказу «позитивная» клоунская реприза на очень «оригинальную» тему. Недели за две до премьеры откуда-то «с больших высот» спустили прямо на манеж указание — чтобы обязательно были две (именно две!) позитивные клоунские (!) репризы на тему «дружбы народов». Мы с Андреем встали на дыбы. Как же это можно? Клоунада и вдруг — на тебе! — позитив. Но нам все сурово объяснили о необходимости выполнить задание.
Начались наши мучения. Мы оставались в цирке на ночь, выдумывая «позитивную» клоунаду. Ничего не получалось. Андрей кричал, что откажется от представления и уедет к черту, но не будет участвовать в этой профанации. И на весь погруженный во мрак цирк «крыл» «кретина, которому взбрела в его идиотскую башку такая ахинея!».
Но однажды ночью, доведенный до отчаяния, я крикнул:
— Андрюша, но ведь и Луначарский говорил, что клоун смеет быть публицистом!
На что Андрей мгновенно ответил:
— Смеет, но не хочет! (После премьеры он подарил мне свой портрет с надписью: «От сопротивляющегося публициста».)
«Правительственные» интермедии мы все-таки сделали. И одну даже интересную. Клоун Андрюша, проказливый мальчишка, разрушал дом, состоящий из больших полуметровых кубов, на каждом из которых было написано по букве. Затем решал составить их по-новому. Меняя кубы, он в конце концов выстраивал их так, что получалось слово «Счастье». На него нападали, пытались разрушить «Счастье», но Андрюша мужественно отстаивал его и уносил с манежа это свое «Счастье» на руках.
Вся интермедия шла на фоне лирической музыки и в самом деле производила впечатление своей наивностью и чистотой.
Но вторая интермедия! Это было поистине создание «эпохальное»... К Андрею, стоящему в центре манежа, с разных сторон прибегали клоуны в национальных одеждах: кто в бурке, кто в бухарском халате, кто в косоворотке. Они произносили какой-то маловразумительный текст, написанный мной, потом братались — менялись одеждой и в общем танце покидали манеж. Впереди шел Андрей в бурке, танцуя лезгинку, с кинжалом в зубах.
Андрей, саркастически улыбаясь, говорил мне: «Эта чушь провалится, и вы сами ее снимете». Но «позитивная» интермедия очень понравилась руководству, и даже было произнесено со вздохом: «Вот если бы вся программа была на этом уровне!»
...На разгромном обсуждении я был краток: сказал только, что верю в успех спектакля, и категорически отказался что-либо переделывать. Решение комиссии было единогласно: спектакль отложить, подвергнуть коренной переработке и тогда уж окончательно решать. Но директор Нового цирка П. Ф. Аболимов напомнил увлекшейся комиссии, что уже утро, через несколько часов — первый спектакль, все билеты проданы на месяц вперед...
В 3 часа ночи (или утра?) все разошлись, сойдясь, однако, на том, что завтра (то бишь сегодня) нас ждет полный провал...
Я отвез еле живого Андрея домой — ему через несколько часов надо было играть премьеру...
То, что комиссия разгромила спектакль, сразу стало всем известно. Настроение у артистов было подавленное. Меня избегали, при встрече старались не смотреть в глаза. Эти мизансцены мне были уже знакомы — и по театру, и по эстраде. Видимо, такова уж актерская природа, где все гиперболизировано: если успех — то вселенский, неудача — тоже планетарных масштабов. И если в успехе «виновны» исполнители, то в провале — естественно, режиссер.
Я набрался терпения до премьеры.
И вот прозвучали позывные начала утреннего спектакля. Поехал в сторону манеж, засветились экраны, зазвучала музыка. Лучи осветили второй манеж, поднимающийся из темноты, с яркими группами актеров...
И — все пошло как по маслу. Несколько раз в прологе вспыхивали аплодисменты, и потом не прекращались в продолжении всего спектакля. Но что больше всего радовало — Андрей имел оглушительный успех. Провалилась только одна интермедия спектакля — «позитивная» клоунада «Дружба народов»: она шла при гробовом молчании зала. (Мы тогда и не предполагали, что потом, через двадцать лет, она «провалится» и в более глобальном масштабе.) «Позитивную» клоунаду после вечернего представления я снял сам. А в финале, который, как предполагали «знатоки», должен был «рухнуть» из-за кучи режиссерских ошибок, в зале разразилась овация.
Те, кто накануне ночью вдохновенно громил нас, прибежали на премьеру, потирая от предвкушения руки, — убедиться, что они были правы... Успех изумил их. Однако тут же нашлась оговорка: «Не спешите, это утренний, детский спектакль, вечером посмотрим!» Одновременно шла «обработка» артистов: я видел, как за кулисами «режиссеры» ловили исполнителей и что-то втолковывали им, все время оглядываясь по сторонам.
Вечером успех был еще больше.
Директорская ложа, где важно восседала «группа товарищей», сильно поредела в антракте. К концу спектакля она была почти пустой. «Товарищи» не могли пережить успеха — они ведь пришли смотреть явный провал. А тут — такая неожиданность!
...Те высокие гости, ради которых, собственно, и затеяли весь сыр-бор, — советское руководство и видные деятели мирового коммунистического и рабочего движения — прибыли на спектакль в конце декабря. Как и положено, за несколько дней до этого в цирк зачастили комиссии Министерства культуры, ЦК КПСС, других важных ведомств. И повторилось все то же: они стали ретушировать каждый номер, вмешиваться в тексты, музыку, клоунады.
Но вот наступил «судный» день. Цирк перекрыли так, что шагу ступить было негде. Кажется, на манеж без пропуска допускались только звери, участвующие в представлении. Однако ослик, на котором выезжал замечательный узбекский клоун Акрам Юсупов (на ослике были навешаны автомобильные номера — на шее и под хвостом), вызвал у охраны подозрение, из-за чего Акрам опоздал на выход.
А вообще руководители всевозможных партий мира оказались людьми достаточно непосредственными: они дружно хохотали и аплодировали весь спектакль. А Фидель Кастро просто влюбился в Андрея и, сидя в ложе, повторял его движения. В антракте нас попросили в правительственную ложу, и между Андреем и Кастро состоялась уморительная беседа при помощи пантомимы. Это была фантастическая пара — одетый в военный френч громадный красавец с седеющей бородой, с сигарой в зубах, и невысокий клоун Андрюша с большой нашлепкой на носу и беретом-морковкой. Потом в клоунскую беседу включились А. Н. Косыгин, другие руководители. Андрюшина «морковка» мелькала среди парадных костюмов «мирового руководства», слышался дружный смех власть имущих. Было что-то трагикомическое в этой сцене.
А спектакль прошел в Новом цирке около 400 раз.
* * *
Мне было интересно поработать в цирке. Для себя я узнал много нового: поближе — цирковые жанры, закулисную жизнь, попробовал новые постановочные приемы. Я был там не один — со мной были мои гитисовские ученики, не только в постановочной группе, но и среди исполнителей: в аттракционе «Акробаты и медведи с качелями» работал Вениамин Беляков — будущий руководитель номера, в «Галактике» — Ядя Кокина. Это помогало на репетициях. И становилось легче, когда я видел своих.
На Олимпиаде-80
О московской Олимпиаде теперь тоже модно отзываться в негативном плане — парадность, показуха, потратили уйму денег. И вообще, нужно ли было проводить ее у нас? Проще было поехать на Олимпиаду в Америку, Японию — они богатые, пусть и платят за все.
Да, стране-хозяйке Олимпиады она всегда стоит огромных денег. Но почему же крупнейшие страны бьются за право провести Олимпиаду у себя? Наверное, не только потому, что это престижно. Олимпийское движение — планетарное движение за мир, и это — тоже причина, почему многие страны приглашают Олимпиаду к себе.
А Олимпиада-80 (тут критики правы) действительно была впечатляющей, красочной, парадной (как и все другие Олимпиады) и дорого обошлась (как и все другие Олимпиады).
* * *
За полтора года до ее проведения я был назначен художественным руководителем и главным режиссером культурной программы. По Олимпийской хартии она должна продолжаться 16 месяцев — 14 месяцев до открытия и затем 2 месяца после Олимпиады. И все это время по олимпийским центрам страны шли концерты, спектакли, представления во всем многообразии видов и жанров. В дни подготовки и проведения XXII Олимпийских игр я достаточно подробно рассказывал в прессе о содержании нашей культурной программы.
«...Олимпийские игры в Древней Греции всегда сопровождались выступлениями танцоров, певцов. Да и разве могло быть иначе в стране античных муз! Лучшие древнегреческие поэты сочиняли во славу победителей торжественные хоры. Великие античные скульпторы навечно запечатлевали их образы в мраморе. А самые искусные мастера Эллады украшали дарственные кубки для олимпийцев. Традиции эти живы по сей день. На наших XXII Олимпийских играх спортсменов и зрителей ждут дни поэзии, театра, музыки, кино, эстрады и цирка, встречи с мастерами искусств. Для олимпийцев будут исполняться арии и романсы, оратории и песни, народные и классические танцы, им будут читать свои стихи поэты, для них открываются художественные выставки...»
Открытие и закрытие Олимпиады-80 должно было проходить на Центральном стадионе в Лужниках. Главным режиссером этих двух «стадионных» праздников был И. М. Туманов. У нас с ним всегда были достаточно непростые отношения. Но на сей раз мы договорились, что разграничиваем «сферы влияния» — он целиком берет на себя Центральный стадион, я же сосредоточиваюсь на культурной программе.
Когда разговор подходил к концу, я развеселился — мне вспомнились Ильф и Петров и конвенция «сыновей лейтенанта Шмидта». Самолюбивый Туманов насторожился (он всегда был со мной настороже — ожидал, очевидно, подвоха) и спросил, что смешного в нашем разговоре. Когда я сказал ему, что мы напоминаем теперь «детей лейтенанта Шмидта», он тоже расхохотался. Встречаясь с ним в дальнейшем, мы так и называли наш «тайный союз».
Большие мероприятия культурной программы Олимпиады проходили в Кремлевском Дворце съездов и на других крупнейших площадках Москвы. В те дни мне пришлось театрализованным представлением открывать культурный центр в Олимпийской деревне, ставить митинг-концерт в Большом театре, театрализованные концерты в Центральном концертном зале «Россия»...
Накануне открытия Олимпиады, 18 июля, в Кремлевском Дворце съездов состоялось массовое действие, в котором принимали участие художественные коллективы всех союзных республик и спортсмены — чемпионы Олимпиад, мира и Европы.
Концерт прошел с большим успехом, без неожиданностей. Это была компенсация за то, что произошло за четыре дня до того в Большом театре.
На том, главном концерте культурной программы Олимпиады — открытии сессии Международного олимпийского комитета, судьба отвернулась от нас. Сессия МОК — ключевое событие Олимпиады, и концерт должен был быть достаточно официозным. Так положено по олимпийской хартии, где записано не только о проведении концерта в честь сессии МОК, но даже есть его сценарий. Согласно ему — открытие сессии по своей форме представляет концерт-митинг, где официальные выступления перемежаются с концертными номерами, а концертные номера тематически должны составлять единое целое с официальными речами.
...Олимпийский сигнал возвещает о прибытии почетных гостей. Концерт-митинг начинается с музыкального номера в исполнении симфонического оркестра. Следует выступление президента Национального олимпийского комитета. Затем исполняется классическое произведение. Следом выступает представитель правительства. Потом — гимн страны-хозяйки Олимпиады, выступление президента МОК, а в финале — исполнение Олимпийского гимна. Этот порядок соблюдается всегда.
После антракта — концерт с участием лучших артистических сил страны, принимающей Олимпиаду.
Вот и все. Казалось бы, чего проще: номер — выступление, номер — выступление. Но как во время речи выводить на сцену огромный хор, усаживать оркестр, таскать стулья, пульты, инструменты?
И я решил — никто никуда не приходит и не уходит: все исполнители находятся на сцене. Вместе с художником В. Клементьевым мы придумали конструкцию, на которой вокруг олимпийской символики расположился хор Большого театра, а у подножия — Московский камерный оркестр под управлением Игоря Безродного. Симфонический оркестр Большого театра — в оркестровой яме. Трибуну, с которой выступали ораторы, вынесли в центр зрительного зала: через оркестровую яму перекинули помост.
Наступило 14 июля 1980 года. Зал заполнили почетные члены МОК — называли каких-то индийских раджей, наследственных принцев, князей и графов, занимавших места в партере Большого театра.
Перед началом в аванложе дирекции я сказал, что пойду проверю еще раз с Юрием Симоновым порядок первого отделения. И ушел к нему в кабинет. Вскоре я вернулся в ложу дирекции.
Ждали приезда Председателя Совета Министров А. Н. Косыгина — он должен был открыть от имени правительства сессию МОК, после чего исполнялся Государственный гимн СССР. В последнюю минуту вместо Косыгина появился первый заместитель председателя Президиума Верховного Совета СССР В. В. Кузнецов. Главную ложу заняло советское руководство и президент МОК лорд Килланин. Церемония открытия началась, и все пошло гладко.
Прозвучали торжественные фанфары, из их звучания родилась «Праздничная увертюра» Шостаковича. После увертюры к трибуне подошел председатель НОК Сергей Павлов и произнес короткую приветственную речь. По окончании речи в центр сцены вышел Игорь Безродный, музыканты Камерного оркестра приготовились, чтобы начать симфонию Вивальди, дирижер поднял руки, взмахнул, и... мне показалось, что я схожу с ума. Вместо нежного, прозрачного камерного звучания раздался громовой оркестровый удар. Я увидел, что весь хор, как по команде, поднялся с мест и запел... гимн Советского Союза.
К моему режиссерскому пульту помчались люди из Министерства культуры, из оргкомитета Олимпиады. Бледные лица, вытаращенные от ужаса глаза... Мне потом говорили, что и я выглядел не лучше.
— Что случилось? — вполголоса в растерянности спрашивали все. Я понимал, что случилась какая-то невероятная накладка. Камерный оркестр замер на полуноте, затем стал подыгрывать симфоническому оркестру театра. Игорь Безродный ушел со сцены.
А на весь зал торжественно гремело: «Славься, Отечество наше свободное!»
И вдруг я сказал: «А что, если после речи Симонов (он стоял за пультом) спохватится и второй раз сыграет гимн?»
Все дернулись, словно ударенные током. И побежали кто куда — за указаниями. Но высокое начальство стояло в зале, подпевая хору, и испросить указания было не у кого. Тогда я написал Симонову записку: «Юра! Второй раз гимн не исполняй!» Далее начался фарс, напоминавший сцену из довоенной кинокомедии «Антон Иванович сердится»: моя помощница Анна Одинокова взялась передать записку Симонову, дирижировавшему гимном. В огромной оркестровой яме между пультов пробиралась девушка, за кулисами в панике метались «товарищи», в зале величественно гремел гимн, а на сцену уже пришли двое молодых людей и увели меня... в ложу дирекции. Там трое пожилых людей в серых костюмах чрезвычайно вежливо и заботливо осведомились у меня, не вносил ли я каких-нибудь изменений в программу, когда перед самым началом концерта уходил к Симонову.
Тут только до меня дошло, какая история стала «нависать» надо мной. Сказав, что готов продолжить разговор в антракте, я было отправился на сцену. Но «товарищи» посоветовали мне остаться с ними. В антракте привели Ю. Симонова, и он подтвердил, что я ничего не менял, что это он «маханул» гимн раньше нужного.
По традиции все свалили на режиссера. Весь антракт меня мяли, орали, что я «аварийный» режиссер, что на мне печать несчастья, что меня надо было давно выслать из Москвы... Я молчал, вспоминая далекий 1962-й, незабвенного Никиту Хрущева, и понял, что если на сей раз я уеду из Москвы, то уже не на полтора года, как прежде...
Раздался звонок к началу второго отделения. Меня насмешливо и зло напутствовали вести концерт дальше и пригласили явиться в ложу после этого.
Второе отделение концерта произвело фурор. Это был такой парад (извините, мои потенциальные критики!) талантов, которого мы теперь никогда больше не увидим и не услышим. Симфонический оркестр, хор и ансамбль скрипачей Большого театра; молодой пианист Михаил Плетнев; певцы Владимир Атлантов, Елена Образцова, Александр Ворошило; учащиеся Московского хореографического училища, балетный дуэт Людмила Семеняка и Владимир Васильев; Северный русский народный хор; ансамбль Игоря Моисеева; Московский камерный хор под управлением Владимира Минина... Уникальное сочетание уникальных талантов...
Успех был грандиозный. После окончания концерта принцы и раджи долго не расходились, устроив овацию нашим замечательным исполнителям. Я видел, как в правительственной ложе лорд Килланин достал платок и утирал слезы.
А мне пришла пора отправляться в ложу дирекции. Но как-то не хотелось туда идти — знал, что меня могло там ожидать. Мы все собрались на сцене. Вдруг — бегут из ложи: «Шароева! Скорее!»
Печальные взоры всей постановочной группы обратились ко мне: я понял — со мной прощаются боевые друзья, с которыми мы сделали столько незабываемых праздников. Но, подходя к своей Голгофе, я неожиданно услышал смех и радостные восклицания. Когда я вошел — наверное, бледный, злой, готовый к худшему, — на меня обрушился шквал поздравлений. Я стоял посреди ложи, в изумлении глядя на людей, всего лишь час назад предававших меня анафеме и чуть было не выгнавших навсегда из Москвы.
Оказалось, когда окончился концерт, президент МОК лорд Килланин, утирая слезы восторга, растроганно сказал советскому руководству, что этот вечер — самое большое художественное потрясение в его жизни, что он никогда не был так счастлив и особую благодарность просит передать создателям этого прекрасного зрелища.
Тут уж в мгновение ока я из преступника превратился в героя.
Признаюсь, что после концерта мы приехали к нам домой — постановочная группа и министерское начальство — и сделали единственно правильное, что могли сделать, — напились на радостях. В разгар веселья по телевизору пошла видеозапись концерта, и мы еще раз заново пережили все и вновь обрадовались, что все уже позади. В разгар нашего веселья моя жена Ирина, многие годы мужественно делящая со мной все неожиданности моей профессии, блеснув своими карими очами, вдруг сказала:
— А если бы лорд Килланин промолчал? Что бы тогда было?
Все быстро протрезвели и тихо разошлись. Очевидно, всем увиделось одно и то же...
На следующее утро «Советская культура» напечатала отчет о концерте:
«Даже само здание Большого театра Союза ССР выглядело вчера преображенным, помолодевшим. Здесь состоялась церемония торжественного открытия 83 сессии МОК. После торжественной церемонии состоялся большой концерт. Его постановщики — режиссер И. Шароев, хормейстер А. Рыбнов, балетмейстер Т. Устинова, художник В. Клементьев. Их хочется назвать прежде всего потому, что в концерте все было отмечено высоким вкусом, профессиональной культурой и мастерством. Какое же богатство и многообразие отечественной музыкальной культуры, каким неисчерпаемым кладезем творческой фантазии обладает наш народ...
Разные по стилю, по характеру, по жанровой принадлежности фрагменты из опер и балетов русских классиков, советских авторов, хоровые и инструментальные произведения и исконно народное творчество — старинный и современный песенно-танцевальный фольклор — все их можно объединить одним, высшим для искусства словом «классика». (Почему же в кавычках? — И. Ш.)
И когда утром читал газету, я до мелочей вспоминал вчерашнее. И за этим парадным, трескучим и не очень грамотным панегириком, спетым в «Советской культуре» критиком М. Игнатьевой, прорывались невидимые миру мои слезы, и весь вчерашний ужас, скоропостижно превратившийся на следующее утро в великую победу советского искусства. И вспоминалось сказанное Ириной вчера: «А если бы лорд промолчал?..»
«Кремлевский» концерт в Мадриде
В 70 — 80-е годы у нас было очень популярно проводить в разных странах Дни СССР, РСФСР, Москвы, различные фестивали искусств. Этим показам придавалось большое политическое значение.
Мне довелось ставить концерты-спектакли в Мадриде, Хельсинки, Афинах, Белграде, Софии, Будапеште, Праге, Берлине. Я не раз возглавлял делегации Союза советских обществ дружбы (ССОД) и общества «Родина», члены которых давали концерты во Франции, ФРГ, Канаде, Америке, Индии и на Цейлоне... Разное бывало в зарубежных гастролях: были события радостные, светлые, но память хранит и события драматические.
Вот одно из них.
1984 год. Дни Москвы в Мадриде. Я назначен художественным руководителем программы. «Гвоздем» должен был стать театрализованный концерт мастеров искусств, которым открывались Дни. За два часа необходимо было показать самые различные жанры: и классику — инструментальную, вокальную, танцевальную, — и фольклор, и многообразие эстрадных жанров.
Классическое искусство представляли: певцы Тамара Синявская, Александр Ворошило и Владимир Мальченко; балетные дуэты — Надежда Павлова и Вячеслав Гордеев, Маргарита Дроздова и Владимир Кириллов; пианист Алексей Скавронский.
Эстрада была представлена Иосифом Кобзоном, Арутюном Акопяном, Людмилой Рюминой, конферансье Борисом Бруновым, вокально-инструментальным ансамблем, танцевальной группой.
Крупные мастера, талантливые артисты. Но если все они выступали с готовыми номерами, то перед Борисом Бруновым стояла трудная задача: он должен был всю программу вести на испанском языке. (Более чем в тридцати странах выступал Борис Сергеевич, каждый раз конферируя на языке страны, где проходили гастроли. Причем, по-моему, языков он не знает. Но Брунов обладает феноменальной памятью и тонким слухом: отлично чувствует мелодику и ритмику языка. Артист не просто объявлял номера по-дикторски — он конферировал, то есть «разговаривал» с залом.)
Конферанс, как и всегда, должен был быть комическим, репризным, а значит — рассчитанным на мгновенную смеховую реакцию.
Сначала текст писался на русском языке и получился очень смешной. Затем был следующий этап — создание испанского варианта. Вот тут все и началось. Переводчики перевели текст точно и скрупулезно. Мы решили проверить, как воспринимается языковой вариант конферанса. Собрали знакомых испанцев, и Брунов прочитал им весь текст. Он очень понравился испанцам. Но мы удивились — никто из них ни разу не улыбнулся: они восприняли текст как дикторско-информационный, потому что он таковым и стал в переводе с русского. Юмор исчез как дым.
Все пришлось писать заново. Сотрудники испанского посольства помогли нам сделать текст более доходчивым и главное — смешным. Подозревали ли тысячи мадридцев, посетивших наши концерты и буквально катавшихся от хохота во время выступления Брунова, через сколько мук мы прошли, пока текст стал таким, каким они его услышали?..
Наша постановочная группа приехала в Мадрид за неделю до открытия Дней Москвы — для монтировки оформления, установки света, акустических репетиций. Мадридские коллеги нам очень помогали, и мы подружились. По характеру испанцы напоминали мой родной Кавказ — темпераментные, громкие, веселые, безалаберные, любящие выпить и поболтать, но высоко несущие свою мужскую честь, люди гордые, с открытыми сердцами для друзей. Были среди них и баски — это уж просто испанские грузины (как считает современная наука), много столетий назад ушедшие от преследования врагов с Кавказа и осевшие в Испании, где природа напоминала их родину...
Незадолго до отъезда произошло трагическое событие: на Дальнем Востоке нашими силами ПВО был сбит южнокорейский пассажирский лайнер. Весь мир бурно отреагировал на это. В Испании на нас обрушился непривычный поток информации. Мы тогда еще не ведали, что такое гласность, и те резко отрицательные комментарии, которые буквально захлестывали ежедневно телевидение и мадридские газеты, действовали на нас очень тяжело.
Но вот наступил день открытия. В Мадридском культурном центре шла генеральная репетиция. Внезапно раскрылись двери, и зал заполнился офицерами и солдатами испанской службы госбезопасности. Они блокировали все ходы и выходы. Появились солдаты с миноискателями, поводыри с овчарками.
Я отправился к директору Культурного центра, и он встревожено объяснил, что в мэрии Мадрида раздался анонимный звонок с предупреждением, что зал заминирован и во время открытия Дней Москвы его взорвут. Из окна кабинета были видны военные, оцепившие целый квартал вокруг Культурного центра.
Сначала я был удивлен такой реакцией властей на анонимный звонок «шутников». Но мне сказали, что основание для паники есть: за две недели до нашего приезда в мэрии раздался такой же звонок, предупреждавший, что если определенные требования не будут выполнены, то террористы взорвут один из домов в центре Мадрида. Мэрия не отреагировала, и на следующий день дом был взорван. Так что авторы анонимных звонков не всегда шутили и развлекались. А тут еще история с южнокорейским самолетом и шум, поднятый во всем мире...
Мы ждали в актерских уборных, пока не закончится осмотр зала и сцены. Но солдаты с миноискателями появились и у нас и проверили щупами каждый сантиметр. Нашли мины или нет — так мы и не узнали. Но когда за час до концерта нас привезли в Культурный центр, мы убедились, что история со срывом Дней Москвы развивается стремительно.
Квартал окружали большие группы молодежи, скандировавшей: «Не ходите к убийцам!» Разбрасывались листовки, изображавшие некое чудище с надписью «СССР». Чудище, яростно оскалившись, разламывало южнокорейский самолет. Вход в здание был блокирован, капельдинеров заменили офицеры госбезопасности, каждый зритель подвергался тщательному досмотру, словно на таможне в международных аэропортах.
КОНЦЕРТЫ

Как же нелегко давались те давние «кремлевские концерты»

Трое «подсудимых» — А. Лазарев, И. Шароев, В. Соколов

Другие времена, другие песни. Мой друг, талантливый Сергей Лисовский, и его знаменитые шоу в дискотеке «У ЛИС'Са»
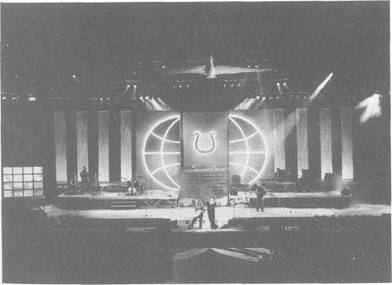
ПРОФЕССИЯ-РЕЖИССЕР
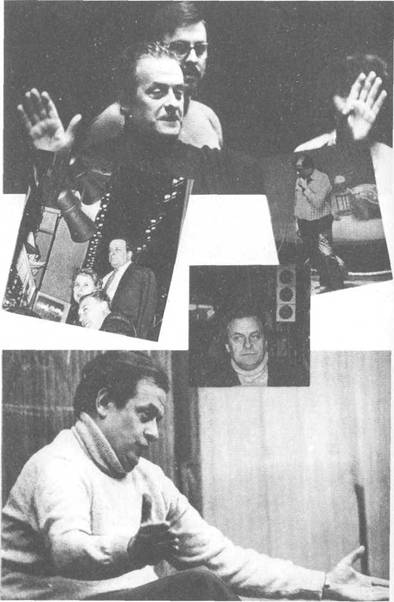
ОПЕРНАЯ РЕЖИССУРА
Сцена из оперы Гайдна «Орфей и Эвридика»

В музыкальном театре им. К. С. Станиславского и В. И. Немировича-Данченко на репетиции «Орфея в Хиросиме» с композитором Акутагавой
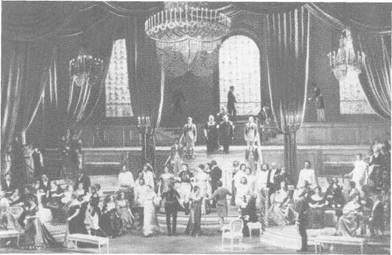
Сцена бала из оперы Чайковского «Пиковая дама» в Баварской государственной опере, Мюнхен, 1984 год

На репетиции с В. Атлантовым
СЪЕМКИ


На съемочных площадках мне приходилось работать с Ю. Чулюкиным, О. Поповым, Е. Светлановым, объездить чуть не всю страну, и не только на современном транспорте
В фойе и в зале находились патрули. Что и говорить, происходившее не способствовало творческому настроению наших артистов.
Концерт начался с большим опозданием. Нас с В. И. Шадриным, тогдашним начальником Главного управления культуры г. Москвы, пригласили в правительственную ложу (такие ложи есть не только у нас), где находились министры, мэр, послы — словом, чем не «кремлевский» концерт в испанской интерпретации? Ни наши хозяева, ни мы не знали, чем все закончится в такой нервной обстановке, как будет принято напуганным зрителем наше искусство.
Но успех определился уже в прологе: зазвучал красивый голос Владимира Мальченко, певшего лирическую песню о Москве, в глубине сцены возникли виды нашей столицы, и с хлебом-солью, обращаясь к мадридцам, вышли девушки-красавицы в русских народных костюмах. А когда Борис Брунов затеял со зрителями непринужденный остроумный разговор (по-испански!), зал грохнул от хохота. Когда же запела Тамара Синявская — успех стал бесспорен.
В. И. Шадрин вдруг сказал мне: «Пойдем на сцену, к ребятам. Уж если рванет, то погибнем вместе с нашими. А то потом всю жизнь мучиться будем!» И мы ушли из строго охраняемой ложи и появились за кулисами. К нам подошел отпевший свой номер, только что лучезарно улыбавшийся залу Александр Ворошило и... мрачно сказал: «Поешь, как под пулеметами!»
А успех нарастал с каждой минутой. Особенно он усилился, когда на зрителей «обрушился» каскад эстрадных номеров. Словно и не было паники с минами, будто никто не подвергался обыску, не стояли в зале патрули и словно не «под пулеметы» выходили наши артисты. Зрители забыли про всю противоестественную обстановку, открыто и радостно принимая высокое искусство замечательных мастеров.
Наши артисты смогли собраться, победить волнение и страх: они были гражданами своей великой Родины, смелыми и талантливыми. Мы любовались и гордились ими. Как же они пели, танцевали, играли в тот вечер! И все последующие концерты шли с большим успехом, но то, что они «вытворяли» на открытии, было неповторимо. Такое не забывается.
...В финале Иосиф Кобзон, с присущим ему темпераментом, запел испанскую народную песню, «заведя» зрителей так, что можно было оглохнуть от восторженных оваций. А когда на сцену вышли все исполнители и Борис Брунов обратился к мадридцам со словами привета, весь огромный зал встал. Темпераментные испанцы кричали, скандировали, пели. Может быть, это был своеобразный протест против всего тревожного, что произошло в тот день, а может быть, это был просто эмоциональный порыв горячего, сердечного, искреннего народа.
* * *
К концу наших выступлений Аэрофлот уже подвергся общему бойкоту, и мы задержались в Мадриде, пока всю делегацию не вывезли — французскими самолетами через Париж и болгарскими через Софию. Уже подлетая к Москве, артисты подошли к нам — поблагодарить за тот памятный вечер, когда мы, придя на сцену, успокоили их. Они всё поняли и оценили. По этому поводу в самолете мы даже «позволили» себе все вместе немного коньяку. А «кремлевский» концерт в Мадриде потом вспоминали не раз...
Театральная история
К эстраде эта история, казалось бы, не имеет прямого отношения. Но все происшедшее в ней очень близко по духу тому, что уже рассказано в книге.
Эта история о том, как был загублен замечательный театр. А причина совсем нелепая — дамский каприз жены ответственного работника ЦК.
...Вышел толстый журнал. В нем — статья. И посвящена она мне. Прочитав ее, я выяснил о себе много интересного: «не художник», «шароевское наследие», «в театр пришел человек, ему чуждый», «говорить об этом можно только языком фельетона».
И наконец, со вздохом облегчения: «Пришло отрадное известие: Шароев оставил пост «по собственному желанию».
Почему же в кавычки поставлено «по собственному желанию»? Ведь я в самом деле ушел сам, а от меня как раз требовали другого — чтобы я бросил ГИТИС и остался только в театре. Но ведь никто из моих коллег по институту, стоящих во главе московских театров, ГИТИС не бросают...
А общий тон статьи! Было время, когда ее автор писал восторженные рецензии на те же спектакли, которые теперь он обливал грязью.
Ну, а журнал? Он-то почему печатает пасквиль? Ведь я уже ушел. Зачем этот плевок вслед?
Так почему же я ушел?
Почти за шесть лет моего пребывания на посту главного режиссера в Московском музыкальном театре имени Станиславского и Немировича-Данченко были поставлены спектакли, вызвавшие интерес в Москве. Тогда, в 80-е годы, театр ожил, в него вернулся зритель, о нем стала постоянно писать центральная пресса — словом, вспомнили, что на Пушкинской улице работает интересный коллектив.
И я горжусь, что девять моих спектаклей шли на сцене этого замечательного театра, что с успехом играли за рубежом мои оперные постановки: «Майскую ночь» в Бельгии и Германии, «Орфея и Эвридику» и «Орфея в Хиросиме» — в Югославии. В Бельгию из Парижа приехали импрессарио и, вдохновленные успехом «Майской ночи» и восторгами прессы, пригласили спектакль на гастроли в Париж.
Но... Министерство культуры СССР и здесь оказалось «на высоте»: там так долго решали, что в результате нашей традиционной бюрократической тупости театр вместо Парижа отправили домой, в Москву.
Вскоре начали происходить удивительные события, источник которых, как выяснилось, находился в недрах ЦК КПСС. Дело в том, что в течение ряда лет некоторые работники Московского музыкального были «укреплены» близкими родственниками в аппарате этого ведомства. Родственники постоянно вмешивались в жизнь театра. Эти «семейные традиции», обусловленные безграничной властью ЦК, расцветали в период «застоя» и благополучно перекочевали в «перестроечные» времена. Перед всесильным аппаратом пасовали все. Зачастую ситуацию в театре определяли капризы тех, у кого был «свой человек» в ЦК.
Бог ведает, почему жена одного «важного» работника решила, что она должна стать ни более ни менее как художественным руководителем Московского академического музыкального театра. Но она — решила! Значит — быть по сему! А для этого необходимо было убрать существующего руководителя, то бишь меня.
Отдел культуры ЦК и Министерство культуры всегда были спаяны, и договориться о совместных действиях не составляло труда. Срочно были организованы комиссии по проверке работы театра, в которые вошли видные музыковеды. Ясно, что ведомства занимались закулисной возней (все-таки хоть видимость какой-то деятельности). И, как правило, расправу они производили чужими руками. Услужливые «руки», как всегда, нашлись. Но почему уважаемые профессоры согласились на эту сомнительную роль, не могу объяснить. Но ведь согласились же!
Любой театр — бочка с порохом: достаточно одной искры, и бочка взорвется с оглушительным треском. А здесь — не искры, здесь швыряли зажженные факелы.
К этому времени под нажимом ЦК Министерство культуры на «парашюте спустило» знатную режиссершу прямо в Московский музыкальный — очередным режиссером. Вскоре и муж переместился из «Большого дома» на Старой площади в «цековскую» газету.
Начался новый этап «операции». Газета стала взахлеб нахваливать жену — прямо Мейерхольд в юбке, да и только. Муж печатал восторженные статьи о своей половине даже на первой странице газеты, вместо передовицы (!). Скажу по-мужски: такое рыцарское отношение к собственной жене достойно восхищения! Но — если бы оно основывалось не на таком элементарном надувательстве.
Усилия «семейной» прессы, увы, возымели действие. В театре, где всегда достаточно кликуш, на собраниях стали выкрикивать затертые штампы вроде «печать бьет тревогу». Скандал искусственно (и довольно искусно!) раздувался. Ненормальность взаимоотношений достигла кульминации, и... терпение мое лопнуло.
Я ушел из театра, хотя решился на это с большим трудом. Вскоре за мной его покинули главный дирижер и главный хормейстер. Недолго удержался и директор (продавший нас и переметнувшийся к группе крикунов-ниспровергателей. Они же, использовав его, вскоре и выгнали из театра). «Очередная режиссерша», пытаясь оправдать свое право на вожделенный статус художественного руководителя, стала ускоренно «клеить» дежурные спектакли.
Московский академический музыкальный театр под восторженные вопли, доносящиеся со страниц «Советской культуры», начал свой необратимый путь к катастрофе...
В течение нескольких месяцев в ангаре, стоящем во дворе театра, где хранились декорации спектаклей, случилось подряд три (!) пожара. Горели декорации разных спектаклей, но в основном — моих. После двух пожаров остались декорации всего двух моих спектаклей. Значит, был необходим еще один пожар. Он и случился. В тех трех пожарах были уничтожены все мои спектакли.
Комиссии, проверявшие причины возгораний, виноватых, естественно, не нашли. В ЦК же на это отреагировали вообще весьма своеобразно: там всерьез обсуждали — а не сам ли Шароев поджег декорации своих спектаклей (!). Думаете, я шучу? Если бы! Там мне вот так напрямую и задали вопрос — а не я ли? Чем не театр абсурда?
Ноябрь 1990 года. В «Московской правде», в «Вечерке», по Центральному телевидению появились «нервные» материалы о Московском музыкальном театре. Там — взрыв, забастовка. Спектакли «летят», в газеты идут письма солистов с требованиями — убрать руководство, доведшее театр до полного распада.
Центральное телевидение показало, как хор объявил голодовку, пошел на улицу митинговать: в самом центре Москвы артисты, перекрыв Пушкинскую улицу, остановили движение, затем двинулись к Моссовету.
А поводом к взрыву послужило очередное вранье в горкомовской «Московской правде». Его автором был тот же сочинитель, что писал статейку обо мне. Теперь он обливал грязью всех ведущих солистов — как раз тех, на которых театр держится. При этом, естественно, выгораживал свою покровительницу — очередную «выдающуюся» режиссершу.
В ответ солисты писали: «Мы, артисты разных поколений, протестуем против безответственного, некомпетентного выпада в наш адрес Д. Морозова. Наше актерское нутро органически протестует против холодного рационализма, ремесленничества, нелюбви к творческой индивидуальности и неумения работать с актерами режиссера N. Назначение ее на должность главного режиссера означало бы, по нашему мнению, крах всей славной истории нашего театра, крах наших судеб и судеб будущих поколений артистов».
Далее история превратилась почти в фарс. Кульминация наступила на спектакле «Паяцы». Опера, как известно, начинается с пролога, где Тонио просит зрителей не судить артистов строго, напоминая, «что и артист — человек!». Начало спектакля задержалось. Но вот наконец раскрылся занавес, появился артист Леонид Болдин — как и положено, в костюме и гриме Тонио. Пролог оперы «Паяцы» начался, но — несколько неожиданно. Вместо «Позвольте... Простите за смелость, но должен я вам представиться здесь: пролог пред вами!», Болдин произнес... в прозе, что он просит зрителей простить театр, но не за смелость (как это следует по тексту оперы Леонкавалло), а за забастовку хора и оркестра. И что в связи с забастовкой спектакль не состоится, а в фойе театра желающие могут прослушать под рояль несколько сцен...
«Вечерка» от 19 декабря 1990 г. Заметка «Такого с театром еще не бывало»: «Московский музыкальный театр... закрыт на целых две недели, до Нового года. Это беспрецедентное решение принято в связи со сложившейся в театре чрезвычайной ситуацией...»
Театральная Москва резвилась — такого с театрами и в самом деле не бывало, даже в Московском театре зверей. А мне не было смешно, потому что Московский музыкальный стал дорогим моему сердцу.
«Двенадцать негритят резвились на просторе...»
Дорезвились. Конечно, режиссершу пришлось срочно убрать, несмотря ни на какие связи. Но в результате скандала весь хор покинул театр, пол-оркестра и ряд солистов — также.
Театра не стало. Все надо было начинать сначала...
Думаете — кто-нибудь ответил за убийство театра?
Никто! К тому времени отвечать уже было некому: ЦК КПСС предали анафеме. Министерство культуры СССР исчезло с лица земли. Московский горком КПСС приказал долго жить.
Грозные комиссии разбежались, сделав свое черное дело. И те, кто издавал всякие дурацкие приказы, тоже исчезли: кого убрали на пенсию, кто-то отправился укреплять личным присутствием частный сектор.
Так что виноватых — нет.
Вот такая получилась история...
Театральная...
ПЯТЕРО НЕПОВТОРИМЫХ
Очень хочется написать о них, о мастерах, которые своим подвижническим даром принесли так много радости людям.
Мне, конечно же, повезло в жизни, потому что пришлось встречаться, работать со многими замечательными людьми. О них уже много рассказано: в книгах, статьях, в теле- и радиопередачах, в фильмах.
Не надо повторять то, что общеизвестно, неоднократно читано, слышано, видено. И — упаси Боже! — это не творческие портреты: на это я никогда бы не отважился. Слишком сложная задача — проанализировать творчество каждого из них. Для этого есть искусствоведы, им, как говорится, и карты в руки.
Моя задача значительно проще и скромнее. Это — заметки, отрывки воспоминаний, попытка восстановить страницы прошлого. Это то, что запомнилось за долгую жизнь, чему свидетель был сам. Я хочу поделиться своими впечатлениями о людях, всем хорошо известных, но рассказать о них то, о чем, вероятно, не все знают. Так мне кажется. И если встреча с ними и на сей раз доставит вам радость — я буду счастлив. Сожалею, что в числе героев моей книги нет великой артистки эстрады Клавдии Ивановны Шульженко. Но так сложилось, что, к глубокому моему сожалению, мы с ней близко не общались и не работали.
Леонид Утесов
По телевидению передавали концерт Л. О. Утесова: номера, снятые в разное время, — и перед войной, и в 50-е, и более поздние годы. Не покидало странное чувство: он приходит в твой дом, в привычный уют, и такой он милый, почти домашний, будто пришел со своими песнями к тебе и поет для тебя. И улыбается такой знакомой, милой улыбкой...
Он жив и для меня, и для многих, кто его знал: звучит его удивительный голос, лукаво искрятся глаза, светятся добром и радостью... И каждый раз — смотришь ли сегодня Утесова по телевидению или слушаешь по радио его песни — понимаешь: он с нами — навсегда.
Леонида Осиповича любили все, даже те, кто совсем не знал его лично. А знавшие любили его как близкого, родного человека. По-другому и быть не могло — такое неотразимое обаяние исходило от этого человека.
О нем всегда ходили легенды — уж очень знаменит был Утесов в народе: и среди стариков, юность которых совпала с его юностью, и среди людей военного поколения, певших на фронте его песни, и среди молодежи, пришедшей им на смену. Слава артиста росла, ибо каждое новое поколение добавляло к его славе свое отношение, у каждого поколения был свой Утесов. Вот уж в самом деле — артист на все времена!
К сожалению, то, к чему призывала нас Марина Цветаева: «Пишите, пишите! Не презирайте внешнего! Цвет ваших глаз так же важен, как их выражение; обивка дивана — не менее слов, на нем сказанных», мы делаем довольно редко. Многое забывается, и в памяти остаются отдельные отрывки, пунктирные воспоминания, встречи, фразы.
То же и с моими «утесовскими» страницами: почти ничего не записано, лишь — фрагменты. Так и назову. Их герой — Леонид Утесов.
Живая легенда эстрады.
Добрый, сердечный человек.


Леонид Осипович Утесов и его оркестр — целая эпоха в нашей эстраде
Когда-то И. Бабель написал о великой серьезности легкомысленного утесовского искусства, о народности, заразительности его певучей души. И еще он сказал, что Утесов несет людям «неутомимую и простодушную любовь к жизни, веселье, доброту, лукавство человека легкой души, охваченного жаждой веселости и познания». Лучше и точнее не сказал об Утесове никто — даже он сам в своих книгах.
А народность его искусства — очень верное определение. Он был для сотен тысяч зрителей, для миллионов радиослушателей — родным. Своим солнечным даром он разговаривал с огромной страной близким ей языком. Он был таким даже в трагические 30-е годы. Мне всегда казалось, что и в ту мрачную пору утесовские песни кого-то могли подбодрить, кому-то дать лучик надежды на то, что тяжелые времена минут, что на свете существует Любовь, Радость, Вера в людей.
Но особенный смысл приобрело творчество Утесова во время войны. Он стал поистине народным артистом, когда запел о подвиге народа, о вере в победу, о героях, идущих на смерть во имя Родины.
Так «легкомысленное его искусство», о котором писал И. Бабель, стало искусством глубоким, гражданским.
Сколько радости приносил он тогда людям! Утесовские песни (иначе их тогда никто не называл — ни авторов музыки и стихов, для народа автор был один — сам Утесов) пели везде, плача над севастопольским матросом или над одесситом Мишкой, повторяли партизанскую:
Парень я молодой,
А хожу-то с бородой.
Вот когда прогоним фрицев,
Будет время — будем бриться!
И не все знали, что Утесов со своим джазом в это время сам был на фронте, выступал на передовой.
А когда по радио мы услышали радостный утесовский голос:
С бою взяли город Брест,
Город весь прошли
И последней улицы название прочли.
А название такое,
Право слово, боевое —
Варшавская улица по городу идет.
Значит, нам туда дорога...
— И потом, в конце песни, как призыв: «На Берлин!» — все поверили, что войне скоро конец, что близка долгожданная Победа.
Мне всегда казалось, что он не мог долго оставаться в одиночестве. Ему было необходимо постоянно общаться с людьми, воздействовать на них, получать от них заряд энергии. Ему нужны были зрители, нужны — не будем ханжами! — поклонение, восторг. «Чувствовать, что ты нужен людям, — разве не в этом счастье артиста и человека?» — сказал однажды Леонид Осипович.
И он был счастлив. И как артист, и как человек.
Он был необычайно добрым человеком, никогда не участвовал ни в каких закулисных «историях», а втянуть его в какое-нибудь неправедное дело было просто немыслимо. Зато добра от него видело множество людей, зачастую просто пользовались этим. При всей своей мудрости он был в обычной жизни большим ребенком, романтиком, поэтом.
Всю свою долгую жизнь Утесов отдавал сердце людям, нес им радость и вдруг — прекратил выступать. Это была неожиданность — такой внезапный уход Утесова с эстрады: ведь несмотря на возраст Леонид Осипович был в хорошей форме, в блеске своего выдающегося мастерства. Но он сам объяснил причину внезапного ухода: «Со сцены лучше уйти на пять лет раньше, чем на пять дней позже».
В Утесове всегда была душевная щепетильность, некая деликатность — свойство подлинно высокой природной культуры. Поэтому он и решил уйти, хотя это потребовало мужества и немалых душевных сил. В своей книге он пытается обойти причины этого трудного шага, изменившего его жизнь и подведшего некую черту под его творчеством.
Встречаясь с ним уже после этого, я никогда не затрагивал эту, явно больную для него, тему. И мне казалось, что это постоянно жило в Утесове последние годы. Но душой он до последних дней был там, на эстраде, на глазах тысяч людей. Он сам сказал о прекрасной тайне эстрады: «В тот миг, когда я стою за кулисами и готовлюсь переступить заветную черту, отделяющую меня от зрителя, волнение подкатывает к самому горлу. Мучительное мгновение! Но вот шаг сделан — я вижу глаза людей, я ощущаю их доброжелательство, их ожидание — и, боже, как мне сразу делается хорошо, я словно выздоравливаю после тяжелой болезни, силы удесятеряются, хочется жить, петь, отдавать себя людям. И если бы не эти часы счастья перед зрителем, единения с ним — я бы не смог выдерживать мучительное ожидание нашей встречи».
1960 год. Лишь несколько месяцев, как я назначен главным режиссером Всероссийского гастрольно-концертного объединения (ВГКО). Направлен «искоренять ересь на эстраде». И ощущаю себя и выгляжу в глазах артистов направленным «из центра» — из ЦК.
И вот — мое первое официальное появление: я приезжаю во главе целого синклита в Московский театр эстрады (еще на площади Маяковского) принимать новую программу Государственного джаза РСФСР под управлением Леонида Утесова.
Мы подъезжаем на черных «Волгах», нас встречают, проводят в кабинет директора. Там нас ждет Утесов. До тех пор мы не были лично знакомы. Нас представили друг другу, и Леонид Осипович, немало удивившись возрасту художественного руководителя, вдруг спросил с лукавой усмешкой: «А вам не страшно руководить нами?» На что я, естественно, отвечал, что абсолютно не страшно и что я преисполнен желания направить эстраду в нужное русло. Веселые искорки, заблестевшие в утесовских глазах, я тогда, по наивности, воспринял как одобрение, не уловив утесовской ироничности.
Леонид Осипович был вообще настроен весело и вскоре пригласил нас на просмотр программы, премьера которой должна была состояться вечером. Видя оживление и веселость Утесова, я несколько насторожился: мне показалось, что во всем этом был какой-то подвох, — уж больно веселился он перед просмотром.
И вот мы в зале. Проходит полчаса, час. Сидим уже полтора часа, ожидая начала официальной сдачи программы, а она не начинается.
Утесов... чинит занавес! Заел занавес на сцене, и все тут!
Разгневанный Утесов стоит в центре сцены, распекает директора, заведующего постановочной частью, администратора, грозит всем смертными карами. Рабочие сцены бегают, шумно суетятся администраторы — всеобщая суматоха, гвалт, паника. Потом Утесов обращается ко мне, приносит извинения за задержку, и — все начинается снова: шум, беготня.
Мы с комиссией сидим в зале, и постепенно до меня доходит смысл происходящего. Это все — инсценировка, своеобразный спектакль, поставленный Утесовым для нас, «грозной» комиссии. Он не хочет нам ничего показывать, боясь, что мы вмешаемся, начнем ломать, «исправлять» сделанное им. Вот и придумал трюк с занавесом — вроде бы политес соблюден, а в результате — вот вам!
Наконец мое терпение лопается. Я встаю, объявляя, что мы опаздываем на следующий просмотр, и покидаю зал. Уходя, я вижу, как на сцене сокрушенно разводит руками Утесов, чрезвычайно «огорченный» ситуацией с занавесом. Представляю, сколько было хохоту, когда мы уехали, как радовались утесовцы, что провели комиссию!
Наступил вечер премьеры. Аншлаг, масса цветов, сдержанный шум в зале, волнение за кулисами. В первых рядах — министр, его замы, строгие «товарищи» из Отдела пропаганды и агитации ЦК, горкомовцы: в те годы любая эстрадная премьера вызывала особый интерес «кого надо». Наверное, от эстрады ждали подвохов, пакостей, недозволенного, и потому она была под пристальным вниманием.
Меня очень интересовало, продолжит ли Утесов утреннюю игру, понял ли он, что трюк его разгадан. Иду за кулисы, встречаю Леонида Осиповича — он уже в концертном костюме, загримирован, готов к выходу.
Обращаюсь к нему с преувеличенной озабоченностью:
— Как занавес, Леонид Осипович?
— Все будет в полном порядке! — мгновенно принимает он игру.
— Не подведет? — волнуюсь я все больше и больше.
— Что вы! — теперь уже ликует Утесов. И, невинно помаргивая, делает «голубые глаза»: — Вы зря уехали Днем! Буквально через пять минут после вашего отъезда занавес починили и все пошло как по маслу. А завпоста я накажу, вот увидите! — пообещал он мне, преувеличенно грозно сверкая очами.
Я желаю ему «ни пуха, ни пера», получаю традиционного «черта» и ухожу в зал, напоследок подергав занавес и убедившись, что он в порядке. Леонид Осипович смотрит вслед и, когда я оглядываюсь, заговорщически подмигивает и улыбается такой знакомой по «Веселым ребятам» улыбкой. И мне кажется, что мы поняли друг друга и какая-то невидимая искорка сверкнула между нами.
Но обсуждение программы все-таки состоялось — сразу же после премьеры. В тот вечер мы поспорили с Утесовым. Он заканчивал всю программу новой песней Тихона Хренникова «Московские окна». Я считал, что она поставлена в финал ошибочно, что лирической песней нельзя заканчивать такой большой и разнообразный концерт.
Утесов взвился:
— Простите, вам что, не понравилась песня?
— Песня прекрасная. И чрезвычайно характерная для Хренникова: красивая мелодия, напевная, задушевная, искренняя. Но она слишком лирична для финала и будет проигрывать от того, что ей не найдено точное место в концерте. И реакция зала сегодня это подтверждает.
Утесов пошел в бой:
— Финал — лучшее место для песни Хренникова. Мне не нужен барабанный финал. Я хочу, чтобы зритель ушел из театра, унося в себе лирическое настроение, а не шум и грохот. А по поводу приема песни — пусть зритель к ней привыкнет, узнает ее. Я помню премьеру песни Дунаевского «Сердце, тебе не хочется покоя». Когда я впервые спел ее в концерте, то удалился под стук собственных каблуков. Но после выхода фильма «Веселые ребята», когда песня зазвучала с экрана, я ее всегда бисировал. Ее узнали и полюбили. Приходите на десятый спектакль и убедитесь в этом.
Я пришел. Утесов оставил песню в финале, и зрители встречали ее с большим энтузиазмом. К этому времени песня Т. Хренникова уже не раз звучала по телевидению и радио, ее запели. И с тех пор «Московские окна» поют по всей стране. Старый мастер и на этот раз оказался прав.
Мы с Леонидом Осиповичем не раз вспоминали эту историю и мой неудачный дебют в качестве худрука. И впоследствии, когда я приезжал на просмотры утесовских программ, я каждый раз заботливо спрашивал Леонида Осиповича, как на сей раз ведет себя занавес, а он уверял меня, что теперь занавес не заедает, и в свою очередь осведомлялся, не будет ли у меня предложений по финалу. В течение ряда лет это у нас было своеобразным кодом, понятным только нам двоим.
Утесов и советская песня — тема огромная. Об этом много написано и рассказано.
Леонид Осипович дружил со многими композиторами. Они видели в нем не только прекрасного артиста, но и единомышленника, считавшего, что песня должна звать к лучшей жизни, к очищению, «к дружбе, к любви к своей земле. Леонид Осипович сам не раз говорил и писал об этом. Общеизвестно, что творческий дуэт Исаака Дунаевского и Василия Лебедева-Кумача возник с легкой руки Утесова: он их познакомил, приведя Лебедева-Кумача в уже сложившийся коллектив фильма «Веселые ребята». Первые совместные песни этого творческого содружества прозвучали с экрана в «Веселых ребятах», а вслед за Утесовым их запела вся страна.
Потом Утесов нашел Василия Соловьева-Седого, и появились «О чем ты тоскуешь, товарищ моряк» и «Вася Крючкин». Именно для Утесова написал Марк Фрадкин целый ряд замечательных песен военного и послевоенного времени: «Дорога на Берлин», «Вернулся я на родину», «Здравствуй, здравствуй»...
А песня Бориса Мокроусова «Заветный камень» в исполнении Утесова годами чуть ли не ежедневно звучала по радио как суровый призыв к подвигу, к самопожертвованию во имя Родины.
Неотъемлемой частью утесовского репертуара стали песни Модеста Табачникова: «Мама», «У Черного моря», «Давай закурим»...
С уважением вспоминал Леонид Осипович Матвея Блантера и Дмитрия Покрасса, много значивших в его творческой жизни. Постоянными авторами Утесова были Евгений Жарковский, Никита Богословский, Оскар Фельцман, Леонид Бакалов. А Аркадий Островский — это его непосредственный ученик. Он пришел в утесовский джаз совсем юным, был там пианистом и аккордеонистом. И первую свою песню написал по настоянию Утесова, под его непосредственным наблюдением. Утесов проникновенно сказал о своем талантливом ученике: «Его песни будут жить всегда, пока люди не разучатся петь».
О замечательной песне Тихона Хренникова «Московские окна», сыгравшей такую роль в нашей дружбе с Леонидом Осиповичем, я уже рассказывал.
Его оркестр постоянно исполнял также музыку Сергея Прокофьева, Дмитрия Шостаковича, Арама Хачатуряна. Но основой, сдружившей Леонида Осиповича с целой плеядой наших композиторов, была все-таки песня — главное в его жизни, его радость и боль.
Леонид Осипович Утесов объединил вокруг себя не только выдающихся наших композиторов, но и поэтов: Михаила Исаковского, Василия Лебедева-Кумача, Михаила Матусовского, Александра Жарова, Евгения Долматовского, Льва Ошанина и Других. Это творческое объединение, возглавляемое Утесовым, нигде официально не было зарегистрировано, хотя и существовало многие годы. Результаты же работы общеизвестны: песни, рожденные в «утесовском объединении», пела вся страна.
Утесов горел, страдал, радовался песней и для песни. В этом был для него не только смысл творчества, но и жизненная философия. «Песни — как люди: они рождаются и продолжительность их жизни разная. Одни, плохие, умирают быстро, другие, хорошие, живут долго... Правда, с людьми часто бывает наоборот: хорошие умирают. А плохие живут и живут. Это, конечно, не закономерность, но, к сожалению, часто так случается. Для того чтобы творить, людям нужна любовь, любовь к человеку».
Эти мудрые и простые слова принадлежат Утесову.
Однажды я позвонил Леониду Осиповичу. Он снял трубку.
— А что, мой дорогой, вы все такой же молодой и красивый? Или ваше время уже ушло? — Голос мягкий, ласковый, какой-то улыбчивый. И — неповторимые интонации, которые по телефону узнаешь мгновенно. (Простая разговорная речь превращалась у него почти что в пение — настолько мелодично он говорил.)
Я предложил ему преподавать у нас на кафедре эстрадного искусства ГИТИСа. Утесов встревожился:
— А что я могу сказать сегодняшним студентам института, когда у меня самого три класса церковно-приходской школы?
Он шутил, конечно.
А я рассказывал ему про кафедру, о том, что в нашей стране впервые начата подготовка в вузе режиссеров и актеров эстрады. И хотя Леонид Осипович от преподавания отказался, но интерес к нам проявлял постоянный: в течение десяти лет он был бессменным председателем Государственной экзаменационной комиссии по нашему факультету. Мы сблизились с ним за эти годы и дружили до последних его дней.
У нас в институте тогда была традиция — проводить открытые заседания кафедры. Они проходили в Большом зале ГИТИСа, заполнявшемся педагогами и студентами, и превращались в интереснейшие концерты-диспуты.
Однажды я пригласил Леонида Осиповича принять участие в таком заседании по проблемам эстрадной песни. Он согласился. Но вечером позвонил и сказал, что просит поменять тему заседания на следующую: «Разговорный жанр».
— Давайте, дорогой мой, сделаем так. Вы не пожалеете, уверяю вас. И я буду не один. Я приведу Алексеева Алексея Григорьевича. Знаете его?.. Ну, тем более. Да, да, конечно, патриарх конферанса. Вот посмотрите — это будет очень интересная встреча.
Они приехали — Утесов и Алексеев — великий эстрадный певец и один из основоположников конферанса. От Утесова, конечно, ждали песен. Но он приехал без ансамбля, даже без концертмейстера. «А что же он будет делать?» — недоумевали некоторые. «Сами увидите!» — отвечал я бодро, хотя и не вполне уверенный в предстоящем.
По установившейся традиции я сделал вступительный мини-доклад о речевых жанрах эстрады и представил двух «героев дня». Зал, в котором было много гитисовской профессуры (помню сидящих в первом ряду М. О. Кнебель, И. С. Анисимову-Вульф), заполненный студентами, принял гостей хорошо.
Предваряя выступление Леонида Осиповича, я напомнил о том, что Утесов всегда стремился соединить театр и эстраду, искал органический сплав этих двух видов искусства. Свидетельство этому — успешные многочисленные театральные выступления Утесова в молодости. И в кино, задолго до «Веселых ребят», он удачно сыграл несколько ролей, в том числе в фильме «Карьера Спирьки Шпандыря».
Играл он и в опереттах, в частности, в «Сильве», в компании блестящих комиков: Г. М. Ярон — Воляпюк, И. В. Ильинский — Ферри, а Л. О. Утесов — Бони. И был на равных с этими выдающимися комедийными артистами.
Но главным, где Утесов нашел единение театра и эстрады, стал созданный им «Теа-джаз» — «Театрализованный джаз под управлением Утесова».
Театр и эстрада — вот путь Утесова, о котором я в тот вечер рассказал в Большом зале ГИТИСа. И когда Леонид Осипович начал свое выступление, он говорил о том, что связывает два эти великих искусства, как много у них точек соприкосновения. Но сказал Леонид Осипович и о различиях и объявил, что одно из главных отличий — отсутствие перед эстрадным исполнителем «пресловутой» (как сказал он) «четвертой стены».
Зал замер. Это было прямое покушение на святая святых системы Станиславского. Заметив и верно оценив реакцию зала, Леонид Осипович сделал шаг вперед, вышел на авансцену, обращаясь непосредственно к гитисовской профессуре. Его слова очень напомнили то место в книге «Спасибо, сердце», где он написал: «У артиста эстрады есть только один партнер, но у этого партнера тысячи глаз и сердец. И если артист эстрады не разрушит «четвертую стену», — это будет означать его провал. Потому и наступало для меня облегчение с первым шагом на сцену, что мне всегда удавалось ее разрушить».
А потом Леонид Осипович рассказывал, импровизировал, отвечал на вопросы зала.
Прочитал и свои стихи — лирические, о любви:
В Запорожье, где казачья Сечь,
У Днепра, у Черноморья-друга,
В месте наших первых юных встреч
Ожидаю я тебя, подруга.
Хоть прошло немало бурных лет,
Все событья пропускаю мимо,
И открою я тебе секрет,
Что любовь к тебе неугасима...
Ему аплодировали долго и дружно. Он был счастлив, что театральная молодежь так горячо его приняла.
Когда я представил А. Г. Алексеева, зал проявил меньше энтузиазма: Алексеев давно уже не выступал, и молодежь его не знала. Но старый мастер постепенно «разогрел» аудиторию, пробил «четвертую стену», и его выступление тоже прошло отлично.
А в заключение оба патриарха устроили соревнование: они стояли рядом на авансцене и, перебивая и дополняя друг друга, рассказывали различные эстрадные истории и легенды. Рассказывали с таким юмором и блеском, что зал заливался хохотом. Даже строгие первые ряды...
Разговор однажды дома у Леонида Осиповича.
— Вы слышали, что сделал Александров? Он выкинул меня из «Веселых ребят»!
— ???
— Да, да, дорогой мой! Выкинул. Он сейчас восстанавливает «Веселых ребят», ему не понравилась вся моя фонограмма, записывать новую я отказался — куда мне сейчас?! И он взял Трошина, записал с ним все мои песни: обманул того, сказав, что я благословил это кощунство. И получается, что на экране — я, а голос — не мой. Чужой голос. Как это может быть — Утесов без Утесова? А, дорогой мой?
Не хотелось верить в это, но было действительно так. Эта нелепость действительно состоялась, и — фильм был «убит». Остались все трюки, беготня с ослами и коровами, клоунская драка джаза, комические похороны — все это осталось неизменным. Но из фильма ушли незабываемые утесовские интонации, то драгоценное, что наполняло эксцентрическую комедию. И мы еще раз убедились, что главное в этом фильме — Утесов, его сердце, его добрая и светлая душа.
Когда же на Центральном телевидении восстановили «Веселых ребят» с прежней фонограммой и Утесов вновь стал Утесовым, мы ликовали. Не только потому, что была восстановлена справедливость, но и потому, что в фильм вернулись его прежнее обаяние и радость.
Торжественный театрализованный концерт в Колонном зале Дома Союзов. Огромное число исполнителей — танцевальные коллективы, артисты театров, кино, эстрады, цирка, симфонический и духовой оркестры, детские ансамбли. Словом — вавилонское столпотворение. Есть в концерте лирический эпизод — «Песни о Москве». В нем с одним куплетом из какой-либо песни о Москве выступают звезды — Валентина Толкунова, Лев Лещенко, Иосиф Кобзон... Кульминация эпизода — выступление Леонида Осиповича. Он долго не соглашался (плохо себя чувствовал), да и не очень стремился в эту компанию с молодыми: к тому времени уже прекратил свои выступления. Но я все-таки уговорил его. Тогда он поставил условие — выступит только под фонограмму! Мы, конечно, согласились — участие Леонида Осиповича украшало концерт.
Он аккуратно приезжал на репетиции, волновался, что будет заметно: как это, Утесов! — и под фонограмму. Но все получалось отлично, и мы всячески успокаивали его. Пел он все те же незабываемые «Московские окна».
И вот — концерт.
Все за кулисами ждут «Песен о Москве». У зрителей эпизод идет «на ура». А когда к микрофону подошел Утесов — в зале разразилась такая овация, что начало песни просто «потонуло» в аплодисментах. А потом зал, затаив дыхание, слушал, как легендарный артист пел чудесную песню Тихона Хренникова.
Снова овации. А потом...
Того, что случилось, не ожидал никто из нас. Утесов подошел совсем близко к микрофону, поднял руку, и зал затих. Леонид Осипович сказал в микрофон (звукорежиссеры успели его включить), что поздравляет всех с праздником, и... запел! Он спел без сопровождения целый куплет песни. И после слов «Дорогие мои москвичи, доброй ночи, доброй вам ночи, вспоминайте нас!», лукаво улыбнувшись, сказал залу: «А вы думали, что Утесов теперь только под фонограмму может петь, а?»
На эту неожиданность разразился шквал аплодисментов.
А мне из ложи, отражаясь в громадных зеркалах Колонного зала, грозило начальство, показывая на часы: «Время, товарищ Шароев, время! Самовольничаете!» В ответ на это я из-за ширм, стоявших на сцене, показывал на бушующий зал: дескать, народу не прикажешь! Эта пантомима продолжалась несколько минут...
Я позвонил домой Леониду Осиповичу и поблагодарил его от имени всех. Он был радостный, довольный. Думаю, не только от приема зрителей, а больше от того, что отважился спеть «вживую». В его возрасте (ему было уже за восемьдесят!) для этого нужна была смелость: вот так, один на один с огромным залом, выйти и покорить!
Конечно, я ему не сказал, как мне было строго указано, что по моей, режиссерской, вине и по вине Утесова концерт задержался на целых три минуты (!); что было велено передать Утесову, чтобы он впредь не позволял себе подобного (!). Он так и не узнал никогда о том, таком обычном для тех лет руководящем хамстве.
— Леонид Осипович! Звоню, чтобы напомнить: мы ждем вас завтра на ГЭКе.
— Очень рад вас слышать, мой дорогой. Только напомните, что это — ГЭК?
— Это — Государственная экзаменационная комиссия, а вы — ее председатель.
— Да, да, помню. Так я слушаю, мой дорогой.
— Мы ждем вас, Леонид Осипович, к 11 утра.
Пауза. И затем — вкрадчивым голосом:
— Скажите, дорогой мой, а что, если я завтра не приеду?!
— Не обижайтесь, но я себя плохо чувствую, лежу уже несколько дней, вряд ли завтра смогу быть. Вы обойдетесь без
меня, дорогой мой?
— Леонид Осипович, не убивайте! ГЭК — это ведь один раз в году! Ни перенос, ни замена — невозможны!
Опять пауза. Слышны какие-то шорохи, скрип. Я чувствую — все летит в тартарары, кричу в отчаянии, приводя, как мне кажется, самый убедительный довод:
— Леонид Осипович! Вы утверждены приказом министра!
— Какого еще министра? — В голосе полное недоумение.
— Как какого? Министра культуры!
Недоумение Утесова растет:
— А он тут при чем?
— Так ведь это же ГЭК! Государственная! Экзаменационная!..
— Я помню, дорогой мой. Я только не понимаю — какое дело до меня министру культуры?
— Но вы же Утесов!
В трубке скрип, шелест страниц. Явно он что-то ищет. И далее — официальным тоном:
— Так как же быть, И-о-а-ким Георгиевич? (Ясно, читает мое имя по слогам, значит — нашел записную книжку, открыл на букве «ш». Обычно он не может выговорить имени и называет меня «дорогой мой».) Ведь я в самом деле болен. И в моем возрасте — мне ведь уже за восемьдесят. Сами понимаете...
— Леонид Осипович! Но вас же все ждут! И вся кафедра, и ребята-дипломники.
— Ну, вы им объясните, что Утесов заболел. Они же все поймут.
— Они не поймут, Леонид Осипович.
— Они у вас все такие непонятливые?
— Они ждут вас. Именно вас. И хотят получить диплом из рук У-те-со-ва. Ведь это же путевка в жизнь!
— Так они ее получат из других рук! Какая им разница? Им же нужен диплом, а не Утесов.
— Да, диплом они могут получить и без вас, но им важно получить его из ваших рук!
— Почему же именно из моих?
— Да потому, что вы — Утесов!!
— Ну что я могу сделать? Я болен! Я могу даже справку из поликлиники представить, если на то пошло. — В голосе обида, даже — отчаянье.
— Справка не нужна, Леонид Осипович.
— А что нужно?
— Нужны вы!!!
— А если я не приеду?
— Плохо! Обидите ребят. А они — ждут вас. Вас!
Пауза. Дыхание в трубке. И затем — обрадовано:
— А у меня на завтра даже машины нет. Я не вызывал.
— Я сам заеду за вами.
— В каком смысле?
— В прямом. Сяду за руль и привезу вас
в ГИТИС.
— А вы сколько лет водите машину?
— Двадцать.
— И много было аварий?
— Четыре.
— Ну, это нормально. Не спешите с пятой. По крайней мере завтра. Ладно, я переругаюсь со всеми домашними, но приеду. Только на один час — договорились? Почему вы молчите, дорогой мой? Вы не согласны? Мы успеем за час? Или вы сомневаетесь?
— Леонид Осипович, не успеем.
— Почему?
— Народу много.
— А сколько, если не секрет?
— Человек 20—25.
— А зачем так много? Кому нужно столько режиссеров? И что — они находят работу?
— Они нарасхват, Леонид Осипович. Дефицитная специальность.
В трубке — дыхание, шорохи. Потом — с надеждой:
— Ну, а если завтра все-таки вы обойдетесь без меня, а, дорогой мой? На этом самом, как вы его называете...
— На ГЭКе, Леонид Осипович.
— Да, да. Обойдетесь?
— Нет, Леонид Осипович.
— Да почему же?
— Да потому что Вы — ...
— Ну ладно, уговорили... Завтра приезжайте без четверти одиннадцать. Я буду ждать вас внизу, на улице.
— Спасибо, Леонид Осипович! Я буду без четверти!
— Но мы договорились — только на один час! На этом самом, как вы утверждаете, ГЭКе...
Без четверти одиннадцать я у его дома, на Каретном ряду. Он уже стоит у подъезда, у того самого места, где сегодня висит мемориальная доска с его профилем. Утесов садится в машину, и я вижу — он в самом деле болен, лицо осунувшееся, землистого цвета, вокруг глаз — круги. И мне становится стыдно, что я все-таки уговорил его поехать на ГЭК. А он не показывает вида, бодрится:
— Очень рад вас видеть, дорогой мой! Вы такой же молодой и красивый. — И спохватывается, вспомнив: — Но мы договорились — не больше часа?
А потом он сидит 5—6 часов на ГЭКе, с интересом беседуя с дипломниками, задавая им массу вопросов, даже споря с ними. Ему интересно — новые люди, новая обстановка, новые идеи... Он увлекался так, что забывал про все — перерывов не делал, от стакана чая отказывался, говоря: «Мы же не успеем закончить, а мы договорились — не больше часа!» А шел уже пятый, но в глазах его мелькали веселые чертики, и он был мил и добр.
И так — 10 лет. Каждый раз в конце июня одно и то же: он болен, происходит разговор, который я привел выше («Не больше часу, дорогой мой...»). Я заезжаю за ним и — опять 5—6 часов без передышки, и остановить его невозможно. Леонид Осипович не мог иначе. Если он увлекался — для него не было ни времени, ни возраста, ни болезней. Мы всегда любовались им на «этом самом ГЭКе» — он был как-то по-утесовски красив и обаятелен. И разговаривал с дипломниками так заинтересованно и уважительно, словно все они были Утесовыми, а он — скромным начинающим.
Леонид Осипович когда-то написал стихи, в которых в трагикомической форме рассказал о своем предчувствии соприкосновения с вечностью. Верный своей жизненной позиции, он и здесь шутил, хотя тема разговора к шуткам не располагала:
Машина подана, водитель — баба. Злится.
В руках ее коса — судьбы не изменить.
Нет, я не вызывал, но знал, она примчится
И скажет: «Я за вами, хватит жить...»
Когда в 1982 году в здании ЦДРИ мы прощались с Утесовым, на Пушечной выстроились толпы. Леонида Осиповича пришли провожать тысячи незнакомых ему людей, но прекрасно знавших и любивших своего подлинно народного артиста.
Много было слез, горя, печали.
Мы прощались не только с великим Артистом, Гражданином. Прощались с Добрым Человеком.
...Мы до сих пор вспоминаем его и жалеем, что его нет с нами. И каждый раз, когда приближается ГЭК, я с ностальгией вспоминаю наш ритуал привоза Утесова в ГИТИС и его голос — мягчайший утесовский голос. Другого такого нет в мире и не будет: «Очень рад, дорогой мой. А вы такой же...»
Об Аркадии Райкине
Год 1960-й или 1961-й. В нашем Театре эстрады Райкин выпускает свой спектакль. Тогда он нередко убегал из Ленинграда, от надзора тамошних властей, не спускавших с него «бдительного ока». А в московской суете было как-то проще выпускать новую программу: спектакль уже родился, живет, и его, как песню, «не задушишь, не убьешь» — и привет ленинградскому обкому!
Правда, потом, в 70-е годы, и в Москве до Райкина добрались: когда Аркадий Исаакович, по старой привычке, приезжал сюда с премьерой, то за него брался Отдел культуры ЦК.
Все заканчивалось запрещением новой программы и очередным инфарктом Райкина. А тогда, в хрущевскую «оттепель», в Москве ему еще была открыта «зеленая улица».
...Московский театр эстрады снова пригласил Аркадия Исааковича выпускать премьеру на нашей сцене.
Начались репетиции.
Я давно мечтал «подглядеть» Райкина в деле, посмотреть на работу Мастера из-за кулис. Каждое утро, к 10 часам, я приходил в зрительный зал, садился незаметно в темные дальние ряды и слушал, смотрел, запоминал.
Как он работал! Наблюдать за самим процессом репетиций было наслаждением.
Райкин не щадил ни партнеров, ни авторов, ни режиссера. От всех требовал максимальной отдачи, предельного напряжения сил. Но больше всех работал сам: самозабвенно, в течение многих часов не прекращая сумасшедшего ритма репетиции, вкладывая в нее всю свою взрывную энергию. Он тратил себя неимоверно, ежедневно просто сжигал свои нервы.
И этот напряженный, даже мучительный, процесс затрагивал не только чисто исполнительскую сторону. Постоянно в работе был текст: он переделывался, переписывался — зачастую самим Райкиным. А сколько рождалось текстовых находок, сколько словечек и остроумных фраз, которые потом будет повторять вся страна, придумывалось Аркадием Исааковичем прямо на сцене!
На репетициях Аркадий Исаакович был всегда возбужден, требователен, чутко реагируя на предложения, — хотя, мне казалось, не очень любил это.
Напряжен, собран, как пружина, и вдруг — хохот. Да какой! Он смеется, закатываясь, сморщившись, останавливается, чтобы глубоко вздохнуть, и снова — приступ смеха. Это значило, что Райкин придумал какое-то острое слово, которое — он знает это абсолютно точно! — уйдет из его спектакля «в народ» и будет жить самостоятельной от него жизнью, как живет безымянный фольклор. Годами все повторяют: «В греческом зале, в греческом зале», «списфичский», «коликчество и какчество», «дифсит», «не надо торопис!», «рекбус», «Что делаешь? — Куру!».
Бывало, он делал передышку. Но для других. Сам же продолжал работу — чаще всего с текстом. И вдруг — словно и не было многих репетиций — начинал читать текст, как в первый раз: ни пауз, никаких интонационных красок, подтекстов, ритма. Просто текст, который он именно читал, проверяя не себя, а автора, — его интонацию, ритмику, «примеривая» на себя, на свою индивидуальность. Читал, читал по нескольку раз... и все, к ужасу автора, начиналось заново.
Видимо, во время репетиции что-то в тексте мешало Аркадию Исааковичу. Поэтому он, сознательно абстрагируясь от своей роли, смотрел на него как бы посторонним глазом, издалека. И находил наконец то, что мешало. Тут же фраза переделывалась, переписывалась. Но структура миниатюры настолько хрупка, что любая переделанная строчка, как ниточка, тянет за собой следующую, та — еще, и опять начинается...
А потом — снова на сцену, проверить только что найденное. Бывало (и часто), то, что в тексте казалось точно найденным, проверенное в действии опять не устраивало Аркадия Исааковича. И — новые переделки. И так — без конца, до самой премьеры...
На райкинских репетициях я понял, что в глубинах своей удивительной души он ощущал цель, к которой шел сам и вел других, но путь был извилист и тяжел.
Бесконечно мог повторять он один и тот же кусок, рождая при этом десятки вариантов — один интереснее другого; кажется — пора остановиться, все найдено... Но он не доволен: понимает, что только лишь в середине пути, что главного еще нет — оно не найдено. Поэтому он бросается вперед — без оглядки, стремительно, увлеченно. И следом за ним, спотыкаясь на кочках, пошатываясь на ухабах и накреняясь на резких поворотах, устремлялся перегруженный скарбом и людьми фургон — его Театр миниатюр.
Придя домой после одной из репетиций, я записал, что многослойный процесс подготовки райкинского спектакля можно назвать только одним словом — мучительный. Да, он (искусство которого заставляло смеяться всю огромную страну) сознательно обрекал себя и тех, кто с ним работал, на муки. Через них проходил великий артист, чтобы прийти к тому конечному результату, который мы называли «феномен Райкина».
Иначе, наверно, и нельзя. Иначе — усредненность, скороговорка. Для многих этот уровень — окончательный и желаемый результат работы. А для него он был только началом.
...Который день присутствую на репетициях и никак в толк не возьму: зачем Аркадию Исааковичу режиссер? Он все делает сам: работает с автором над текстом, с композитором над музыкальным оформлением, распределяет роли, репетирует с актерами, устанавливает мизансцены. А режиссер (обычно приглашенный, постоянного режиссера у него нет)? Что делает он?
Однажды утром весь его театр уселся в зале. На сцене один Аркадий Исаакович: примеряет маски, которые только что привезли. Он и сам их увидел впервые. Надевает маску с париком, садится в кресло и спрашивает: «Ну как?» Из зала слышатся голоса актеров: советы, критика, восторги.
«А если так?» — спрашивает Райкин, что-то исправив в маске и несколько изменив ракурс. И опять из зала — советы, мнения. И так весь день: Аркадий Исаакович пробовал маски, а актеры их оценивали.
А режиссер? Где же его голос?
Режиссер же весь день нервно вышагивал по залу, пытался вставить свой голос в нестройный хор голосов. Обиженный, расстроенный, он выбегал в пустое фойе, возвращался на репетицию, заявлял, что не согласен, что у него есть свое мнение. Но, увы, его никто не слушал: все увлеченно занимались масками, горячо обсуждали, спорили. Аркадий Исаакович так ни разу к режиссеру и не обратился, не сказал ему ни одного слова.
И я подумал — может быть, Райкину нужен «глаз со стороны», чтобы посоветоваться, когда он сам на сцене? Но когда Аркадий Исаакович репетировал свои эпизоды, в зале сидели актеры, не занятые в сцене, и он обычно обращался к ним. Не знаю, как было, когда свои спектакли ставили Борис Равенских или Николай Акимов, — я же видел режиссера иного творческого ранга и рассказываю о том, чему был свидетелем.
Пришло время, и Аркадий Исаакович решил проблему режиссуры в своем театре просто: он стал ставить спектакли сам.
Я и сегодня уверен — такой гениальной творческой личности, как Райкин, режиссеры не были нужны: уж очень самостоятельная была индивидуальность.
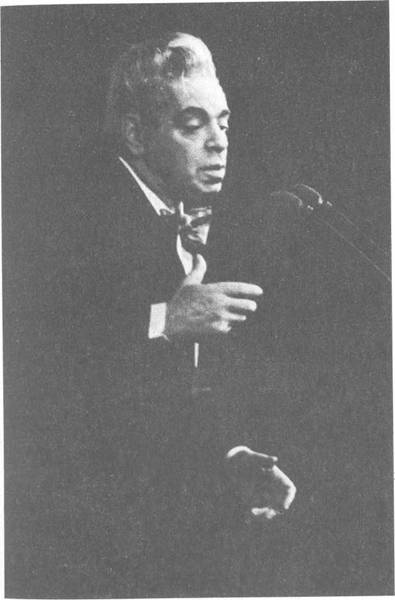
Великий Райкин
Аркадий Исаакович заметил меня в темном зале — это я понял совершенно отчетливо по его молчаливой реакции. Но внешне никак не отреагировал — не здоровался, не смотрел в мою сторону, решив, очевидно, что раз я сам не проявляюсь, то, значит, есть на то причины.
Но известно, что он и сам в молодости любил пробираться в зал, прятаться в темноте, тайно присутствуя на репетициях мастеров. Так однажды произошла его встреча с В. Э. Мейерхольдом.
На репетиции спектакля «Горе от ума» в Ленинграде Мейерхольд заметил в зрительном зале молодого Райкина и хотя не знал, кто перед ним, но интуиция гениального режиссера ему что-то подсказала. Он долго смотрел на юношу, а затем задал всего два вопроса: чей он ученик и почему у него хриплый голос? А затем последовало неожиданное приглашение в Москву, в театр Мейерхольда, с предоставлением жилплощади.
Как объяснить эту невероятную историю, похожую на театральную сказку? Мейерхольд Райкина не знал, видел его впервые. Да и слышать о нем не мог — тот еще был лишь скромным студентом. И вот так, не зная, кто перед ним, не спрашивая даже фамилии юного артиста, — сразу и в свой театр, и роль в «Даме с камелиями», и квартиру в Москве?
Что это было: шутка, каприз Мастера? Объяснить это можно лишь одним: мгновенной озаренностью гения, почувствовавшего удивительную природу стоявшего перед ним юноши и его внутреннюю душевную силу. Поистине надо было быть Мейерхольдом, чтобы вот так, за несколько минут, угадать и предсказать будущего Райкина!
Эта встреча произошла (заметьте!) в темном зале, во время очередной нервной репетиции, и таинственная магия театра, которую в совершенстве постиг Мейерхольд, сыграла свою роль. Ею впоследствии в совершенстве овладеет и тот, кто стоял тогда перед ним, смущаясь и восхищенно глядя на мага и волшебника Театра своими чудесными очами — глубокими, ироничными и печальными...
Я не удовольствовался посещением репетиций и, когда пошел спектакль, чуть ли не каждый вечер стоял в кулисах на сцене. Мне хотелось знать, как Аркадий Исаакович готовится к выходу, как играет, переходя (мгновенно!) из образа в образ. Меня интересовало все — даже прием трансформации, которым он тогда пользовался: фантастический калейдоскоп лиц, характеров, когда в течение 10 минут он успевал сыграть 10—15 ролей. Интересовала не только творческая сторона дела, но и чисто техническая: как он успевает в считанные секунды переодеться, поменять маску, перебежать из двери в дверь и перестроиться на иной образ, иное мышление, иную манеру поведения.
И на воплощение такого сонма сложнейших задач 4—5 секунд? Фантастика!
И как мастерски он держал ритм, прекрасно зная, что потерянная секунда — смертельна для эстрадного действия, что ее потом не восполнить ничем.
Подумайте, какой же концентрации это искусство, какой силы и — хрупкости.
...Он работал в постоянном напряжении — органически соединив в себе дар режиссера, автора и исполнителя — уникальное единение таких сложнейших, редко сопоставимых слагаемых.
В эксцентрическом искусстве есть только один-единственный пример подобного счастливого единения — Чаплин.
И чем больше наблюдал я Райкина за кулисами, тем больше поражался его филигранной отделке самых, казалось бы, незначительных деталей, его азарту осуществить невозможное — невозможное, конечно, для других, — но для него, Мастера, естественное.
Однажды я заметил, что Аркадий Исаакович стал коситься, в очередной раз увидев меня в кулисе. Думаю, что моя молчаливая настойчивость (я с ним ничего не обсуждал и ни с какими вопросами не обращался) вызвала у него сначала недоумение, а потом подозрительность: что это делает главный режиссер театра каждый вечер за кулисами? что ему надо? Очевидно, Аркадий Исаакович обсуждал это с другими, потому что однажды директор театра намекнул мне, что Райкина мое постоянное появление за кулисами во время спектаклей беспокоит. Я не рискнул все объяснить Мастеру, но за кулисами больше не появлялся, хотя и очень сожалел об этом.
Тем не менее «райкинские университеты» дали мне очень много — и с точки зрения профессиональной, и (что, может быть, еще важнее) как некую возможность, «заглянуть» в психологию творчества уникального артиста.
Вспоминаю VI Всесоюзный конкурс артистов эстрады, который проводился в Ленинграде. А. И. Райкин — председатель жюри, я — его заместитель по речевым жанрам (!). Положение не из завидных: заведовать речевыми жанрами при Райкине — хорош сюрприз! Но вышел приказ министра, и я вынужден был подчиниться.
Торжественное открытие конкурса, все члены жюри на сцене. Наш ответственный секретарь Геннадий Смирнов увлеченно держит поздравительную речь перед участниками. И говорит, увлекшись: «От имени жюри желаю всем вам, чтобы колыбель революции стала для вас стартовой площадкой в искусстве».
Спрашиваю у Райкина:
— Аркадий Исаакович, а может колыбель революции стать стартовой площадкой?
— Может! — мгновенно отвечает он. И добавляет: — Может! Если ее сильно раскачать ...
Я смотрю — говорит вполне серьезно, многозначительно. Только какой-то чертик мелькнул в глазах, мелькнул — и тут же пропал...
Всегда самый трудный на конкурсе — первый тур. Надо просмотреть всех участников, отсеять большое число слабых, чтобы потом, на следующих турах, можно было судить об истинном уровне исполнителей.
Уже три дня мы сидим с А. И. Райкиным в зале рядом и не общаемся. Часами. До этой встречи у нас бывали недоразумения, причем умело организованные «доброжелателями». Райкин — человек самолюбивый. Я тоже не лишен этого качества. Поэтому мы не тянулись друг к другу и наши отношения за черту официально-вежливых не переходили. Хотя часто приходилось встречаться на коллегиях, конференциях, обсуждениях.
И вот — сидим и молчим. Аркадий Исаакович смотрит на сцену не отрываясь, все его внимание там; он играет вместе с исполнителями, переживает.
А в паузе (даже малейшей) покоя ему нет ни минуты: «Аркадий Исаакович! Вы слышали?.. Аркадий Исаакович! Как ваше мнение?.. Аркадий Исаакович! Хотите последний анекдот? Самый свежий!». Лезут со всех сторон — настырно, афишируя возможность вот так запросто, по-свойски обращаться к великому артисту. Вроде бы на равных. Райкин вежливо вступает в разговор и, кажется, принимает в нем участие. Но лицо его при этом говорит о другом: он отсутствует, весь где-то далеко, в своих мыслях, и совершенно не воспринимает эту суету вокруг него.
Уже на второй день я начал почти физически ощущать, как он напрягается от всего этого, пытается уйти, а потом, словно улитка, незаметно уползает в скорлупу, чтобы там отсидеться от очередного приступа своей популярности. Понимаю, что Райкин — тончайший организм, его душа — хрупкий инструмент, у которого свой, неповторимый настрой, и все, что нарушает его, мешает ему уйти в свой удивительный мир. И так хотелось оборвать назойливых изъявителей своего расположения, сказать им, чтобы остановились, не лезли, не трогали его! Но сижу рядом и молчу.
Конечно, мне очень хочется обменяться с ним мнениями по поводу конкурса, но сдерживаю себя, видя, как на него действует бесцеремонное внимание. Молчу день, два... И вот в конце третьего дня он заговорил сам!
— Скажите, а вам не кажется... — обратился он ко мне по поводу одного из исполнителей.
Я ответил.
И тогда он признался:
— Я третий день наблюдаю за вами, вы часто иронически улыбаетесь...
Я сказал, что причиной тому не я, а исполнительский уровень конкурсантов. Он в ответ рассмеялся, высказав, в свою очередь, и свое, не очень высокое мнение о ряде выступивших за три дня.
На следующий день мы уже подробно беседовали, сидя за столом жюри...
В то время в официальных документах и выступлениях была в ходу такая формула: «Желаю вам большого человеческого счастья». Особенно интонацией подчеркивалось слово «человеческого» — так, будто нам с вами могли пожелать и коровьего, и козьего счастья. Я сказал об этом Аркадию Исааковичу, и он, засмеявшись, тут же ответил: «А представляете большое счастье маленького советского мыша, нашедшего наконец свой кусочек сыра?»
А. И. Райкин сказал, что «болеет» за молодого ленинградского мима, с не известной пока никому фамилией Полунин, которого считает сверхталантливым и которым восхищался Марсель Марсо. И попросил, чтобы я позвонил ему вечером и сказал об итогах первого тура по оригинальному жанру (в этот день заканчивался первый тур).
Узнав, что Вячеслава Полунина жюри «зарубило», не пропустив даже на второй тур, я позвонил Аркадию Исааковичу. Он долго молчал, потом спросил, могу ли я собрать завтра в 9 часов утра президиум жюри. Я обещал.
На следующее утро мы собрались. Наш председатель был краток. Строго глядя на членов президиума, как на нашкодивших школьников, он сказал всего лишь одну фразу, что и он, и все члены жюри будут опозорены, если такой талантливый человек, как Вячеслав Полунин, не станет лауреатом конкурса. Наступила большая пауза. Затем я предложил пересмотреть решение жюри оригинального жанра (это было право президиума — корректировать решения жюри по всем жанрам) и пропустить Полунина на второй тур. Члены президиума (включая и представителей оригинального жанра) проголосовали «за», явив удивительное единодушие. Райкин, никак не прокомментировав это, встал и пригласил всех в зал на очередной просмотр.
Конкурс шел своим чередом. Аркадий Исаакович был занят невероятно: весь день он сидел в зале, за своим председательским столиком, а вечером еще играл спектакль. Откуда у него брались силы — бог весть. Ведь он был уже в возрасте, и его одолевала серьезная болезнь сердца. Но он выдерживал нагрузку, которая и молодому была не всегда по силам.
Однажды Райкин пригласил к себе на спектакль наше жюри. Он был тогда сильно простужен, днем кашлял, сидя на просмотрах. Я не мог понять, как же он сыграет вечером? А тут еще новость: Владимир Ляховицкий, тогдашний основной партнер Аркадия Исааковича, внезапно заболел и не вернулся из Москвы.
Райкин помрачнел (он и так сидел невеселый) и, помолчав, сказал:
— Отменять спектакль нельзя. Будем играть. Придется самому тянуть.
Я спросил его:
— Может быть, члены жюри придут в другой раз?
Но он заупрямился:
— Я же пригласил, все отложили свои дела — это неудобно.
Он уехал за два часа до начала спектакля домой, а потом — в театр.
— Надо быть в театре хотя бы за час до спектакля, — пояснил он и исчез в темноте зрительного зала.
У него вообще была эта способность — неожиданно появляться и так же неожиданно исчезать. Было в этом нечто мефистофельское. Когда же я общался с ним один на один, меня не покидало ощущение какой-то таинственности, окружавшей его, некой глубинной силы, которую он, мне кажется, всегда чувствовал в себе, но в быту, в общении, старательно прятал, берег. И все-таки чувство соприкосновения с чем-то инфернальным — не из легких и не радостных — сковывало меня при встречах с ним.
Может, это энергетический ток, исходящий из мозга и души гения? Или это те силы, которыми — в меньшей степени — воздействует на нас сильный экстрасенс? Но что Райкин обладал гипнотическим воздействием — для меня несомненно.
В разговоре с Аркадием Исааковичем всегда казалось, что говоришь с двумя людьми. Один смотрел на тебя, отвечал неторопливо, сам задавал вопросы, улыбаясь неповторимой, очаровательной улыбкой, — словом, общался с тобой по привычным канонам. Но второй — и главный — таился где-то в глубине: тихий, молчаливый, словно просвечивающий твою душу насквозь. Он видел и понимал в тебе то, в чем, может быть, и самому себе не признаешься. Нечто булгаковское, воландовское чудилось в этом таком милом, интеллигентном, таком загадочном человеке.
Райкин владел искусством разговора беспредельно, ведя его всегда тихо, неторопливо, с большими паузами, надолго задумываясь. Прервать эти паузы было невозможно — он просто не отвечал, делая вид, что не слышит. А может быть, — что скорее всего — ив самом деле уходил в себя настолько, что на какие-то мгновения не слышал собеседника. Мне казалось в эти минуты, что он общается с тайной, живущей в нем, с тем Космосом, который и делает гения гением...
Нет, нет, я имею в виду не «черную магию»!
Он был человеком строгого и взыскательного вкуса. Терпеть не мог шаманства ни в творчестве, ни в жизни. Но ощущение какой-то обволакивающей вас магии исходило от Райкина помимо его воли — и когда он был один на эстраде (тогда объектом его «колдовства» становились тысячи людей), и когда мы беседовали с ним наедине.
...И вот спектакль. Все мы знали, что Райкин болен, да еще это отсутствие Ляховицкого. Положение тупиковое. И, как мне казалось, к сочувствию примешивалось еще и профессиональное любопытство — как-то он выкрутится?
Спектакль шел в огромном Дворце культуры имени Кирова. Громадный зал, неуклюжая сцена, где идут громоздкие оперные спектакли, и — камерное, филигранное искусство Райкина, да еще больного, да еще без партнера...
Он сделал невозможное! Он почти не уходил со сцены. Те миниатюры, которые он обычно играл с партнером, Райкин заменил своими монологами. Фактически это был моноспектакль. Лишь несколько раз он уступил сцену другим номерам: вышел Александр Дольский, спел несколько своих песен, несколько интермедий сыграли артисты театра. Но в основном играл Он. Не менее двух часов один на сцене!
Играл он в тот вечер гениально — другого слова просто не найти. И не остался этот спектакль нигде: никто не сделал фонограмму, телевидение не сняло его на видеопленку. Да и кто мог предположить, что именно этот тяжелый день — болезнь, срочные замены, нервное напряжение, связанное с этим, — для Райкина станет звездным?..
В тот вечер мне приоткрылась одна из тайн райкинской магии: он не только отдавал залу свою энергию, он и брал многое от зала, заряжаясь той энергией, которая излучалась из тысяч горящих восторгом глаз зрителей. Эту энергию он впитывал, и она, мгновенно трансформируясь в его душе, возвращалась от него зрителям, обогащенная его талантом.
Зал бешено аплодировал. И больше всех — наше жюри.
Мы, зная состояние Аркадия Исааковича, не могли не оценить подвига артиста и его великого мастерства. Райкин видел нас (мы все сидели в одном ряду) и, когда в финале кланялся, заговорщически улыбнулся: «Знай наших!»
Я кинулся к нему после спектакля, чтобы сказать ему...
Райкин сидел в гримерной усталый, осунувшийся и — опустошенный. Нет, никакой — традиционной для мемуаров — радости, удовлетворения не было на его лице. Оно было печально — постаревшее лицо старого комика. В эту минуту оно напоминало лицо чаплинского клоуна Кальверо из «Огней рампы». Он сидел, смотрел на себя в зеркало. Увидев меня в нем, сказал несколько фраз в ответ на мои восторги. Голоса опять, как и до спектакля, не было: Райкин хрипел, с трудом выговаривая слова. Так он и сидел, отрешенный, отдавший за один вечер столько душевных сил, что иному их хватило бы на год.
Вот — сила таланта: на сцене он был молодым, стремительным, весь лучился счастьем творчества, к нему на те два часа даже голос вернулся. А на следующий день не появился за своим председательским столиком: заболел. Сказалось то, что с трудом, видно, он преодолел себя накануне вечером.
Потом Райкин пришел, занял свое место, неожиданно вспомнил про Полунина и про предстоящее обсуждение итогов второго тура. По его настоянию я присутствовал на заседании жюри оригинального жанра. Мое появление было верно воспринято как «глаз Райкина». Все сошло благополучно: Полунина единогласно (!) пропустили на третий тур. Он стал лауреатом, завоевал первое место, и началась его интересная творческая жизнь. И сегодня, глядя на выступления Вячеслава Полунина, радуясь успеху талантливого актера, я вспоминаю перипетии конкурса. И неотвязная мысль преследует меня: а если бы Райкину было все равно и он бы не вмешался?..
Снисходительность его к людям порой была необъяснима. На конкурсе выступало несколько молодых конферансье. Глядя, как они, слабые в профессиональном плане, трепещут, представ перед «самим Райкиным», Аркадий Исаакович вдруг смягчился и решил пропустить их на третий тур. Я протестовал: уж больно очевидной была слабость молодых артистов. Но Аркадий Исаакович «закусил удила». Ему, с его недостижимых для нас высот, видно, «что-то» показалось, и разубедить его оказалось невозможным. В жюри с ним обычно не спорили, тем более по тем вопросам, где он сам был великим мастером. Трое конферансье «проползли» на третий тур. По условиям конкурса они вели по отделению, и выходить на зрителя им пришлось 5-6 раз. Случались (как всегда) и неожиданности: большие паузы, не готова аппаратура, опоздали на выход исполнители. В этих паузах и развернуться бы конферансье, показать способности к импровизации, умение владеть залом. Но конферансье растерялись, заметались и в результате — провал такой, какой бывает на эстраде, — с треском, позором.
Аркадий Исаакович не прерывал ни одного из них и дал им возможность довести до конца свое выступление. Я сидел рядом и видел, как в темноте зрительного зала мерцали райкинские очи. Он никак не комментировал происходящее, только изредка то ли покряхтывал, то ли издавал какие-то междометия. Но если бы молодые артисты увидели его лицо после просмотра, они бы бежали без оглядки, навсегда забыв о конферансе.
На лице Аркадия Исааковича не было разочарования или злости — нет. Нечто иное «бродило» по нему: недоумение, даже растерянность, смешанные с жалостью, добротою и... презрением. Да, и это чувство читалось на лице Райкина. По-человечески сочувственно отнесясь к молодым артистам, он не мог простить им беспомощности как профессионалам. И еще одно можно было уловить в его «внутреннем монологе»: досаду на тех, кого он защитил. Мне показалось даже, что он был обижен на этих молодых неудачников: словно они обманули его, и он «попался».
Когда на жюри обсуждали конферансье, все проголосовали «против». Аркадий Исаакович сидел с отсутствующим видом, никак не прокомментировав ни выступление конкурсантов, ни реакцию жюри.
1981 год. В Москве, в Центральном концертном зале отмечается 70-летний юбилей Аркадия Исааковича. Юбиляр — на сцене в ослепительно белом костюме, при орденах и медалях, со звездой Героя Социалистического Труда. Такой пышный парад несвойственен Райкину — он никогда не носил никаких знаков отличия.
Парад знаменитостей, остроумные приветствия многих московских театров, шумное, веселое зрелище. Из начальства — никого, хотя им оставлены места, их ждали. Но у всех именно в тот вечер оказались важные дела. Никто не пришел. На всякий случай — а вдруг Райкин опять что-нибудь «сморозит»? Отвечай потом...
Единственный, кого прислали «сверху», был представитель министерства культуры РСФСР. Ему поручена официальная речь «от имени...». Начал он торжественно, выйдя на сцену с дежурной улыбкой, старательно изображая благорасположение и радость по поводу юбилея того, кто всю жизнь горячо, последовательно и талантливо разоблачал все, что составляло сытое благополучие чиновников...
«...И от себя лично позвольте поздравить вас, дорогой Аркадий Александрович»... Так прямо и сказал... Зал замер. На лице Аркадия Исааковича, поначалу принявшему покорное официальное выражение, появилась некая мука: это он стоически боролся со смехом. И не выдержал — засмеялся так, как мог смеяться он — с всхлипыванием, вздохами, заразительно.
Зал взвыл. Нет, это был не просто хохот. Это был вой, вопль: зал хохотал долго, от души.
Чиновник растерялся (он, судя по всему, не заметил своей оговорки). Помолчал, поглядев в изумлении в зал, и от растерянности начал снова: «...И от себя лично позвольте поздравить вас, дорогой Аркадий...»
Договорить ему не дали. Райкин закатился в новом приступе хохота. Зал ответил ему, радуясь тому, что наконец-то можно осмеять представителя официальных властей, так и не отважившихся появиться на празднике у Райкина. Многого мог не знать чиновник про культуру, но не знать, как зовут Райкина!..
Чиновник от культуры кое-как долопотал нечто официозное и исчез, будто его и не было. Юбилейный вечер весело покатился дальше.
Зал опять взорвался хохотом, когда Л. О. Утесов, выйдя на сцену, обратился к Райкину: «Дорогой Аркадий — как мы сегодня выяснили — Александрович!» Веселились все, а более всех сам Аркадий Исаакович. Он, конечно, своим острым глазом увидел в этой истории некую государственную эксцентрику, подтексты которой сразу же оценили и все присутствующие.
В приветствии участвовала и наша кафедра эстрадного искусства ГИТИСа. Мы собрали наших выпускников и тогдашних студентов — Сергея Дитятева, Акопянов — отца и сына, Анатолия Елизарова, Светлану Резанову, Ефима Шифрина и многих других.
Дитятев написал комедийную мини-пьесу, где шутливо рассказывалось о творческом пути артиста. Фима Шифрин, тогда еще совсем молодой, выходил на сцену из зала в образе юного Аркадия Исааковича — он тогда был похож на него — и стремительно исполнял каскад цитат из «раннего Райкина». Мы выписали студенческий билет № 1, где зачислили Аркадия Исааковича в ряды студентов «навечно». Я торжественно вручил ему этот билет.
Когда мы расцеловались с белоснежным юбиляром, сверкающим и звенящим золотом и платиной орденов, я с удивлением заметил в райкинских глазах некого чертенка. Тогда мне подумалось: может, и впрямь все это не парад, а скорее — маскарад или карнавал, где все в масках и шутовских костюмах. И первый среди них — сам юбиляр, весело подтрунивающий над собой и над другими?
Кульминацией нашего приветствия стал райкинский вальс. Светлана Резанова, исполняя песню «Белый танец», приблизилась к юбиляру, приглашая его. Мы спорили на репетициях — пойдет ли Райкин танцевать? 70 лет — все-таки возраст, да тут еще торжественный юбилей! На всякий случай было сделано два варианта: если он согласится и если его не удастся вовлечь в эту прекрасную авантюру.
И вот он наступил — этот опасный момент. Резанова остановилась перед Райкиным, склонилась перед ним в поклоне. Зал замер, замерли и мы, стоящие на сцене. Я смотрел на Аркадия Исааковича и видел, что он в сомнении — рисковать или нет. Какие-то несколько секунд, но чего они стоили?
И вдруг — чудесная райкинская улыбка, озорной взгляд, миг... и он поднимается. Делает шаг, принимает даму в свои объятья и совершает тур вальса по всей сцене под восторженные возгласы зала. Нечто юношеское — из давно ушедшего — мелькнуло тогда, когда семидесятилетний артист, стройный, подтянутый, устремился с молодой певицей в изящный, легкий танец...
В Худсовете по эстраде — официально он назывался Художественный совет по вопросам эстрадного искусства Министерства культуры СССР — в разные годы был собран цвет нашей эстрады: Леонид Утесов, Аркадий Райкин, Татьяна Устинова, Лев Миров, Марк Новицкий, Клавдия Шульженко, Людмила Зыкина, Олег Лундстрем, Мария Миронова, Михаил Жванецкий, Борис Брунов, Гелена Великанова, Алла Пугачева, Геннадий Хазанов, Евгений Петросян, Сергей Каштелян, Леонид Маслюков, композиторы Ян Френкель, Оскар Фельцман, Александра Пахмутова, Юрий Саульский, Раймонд Паулс, дирижеры Юрий Силантьев, Владислав Соколов и многие другие. Я десять лет был председателем Худсовета, и мне довелось многое видеть и слышать за эти годы.
Аркадий Исаакович был моим... заместителем (!). Мы работали дружно, и мне кажется, что он так и не догадался, что он мой зам. Я советовался с ним перед заседаниями, приглашал его за стол президиума, и мы часами сидели рядом, ведя заседания.
Когда начались новые времена и слово «гласность» получило гражданские права, когда в газетах мы стали читать такое, что глаз, не привыкший к подобному, в ужасе шарахался от газетных страниц, на одном из заседаний деятели эстрады очень радовались, что теперь сатире открыты двери. Один Райкин сидел молчаливый, задумчивый, не вступая в общий восторженный хор.
Пошумев и порадовавшись, присутствовавшие обратились к нему с поздравлениями. Аркадий Исаакович неожиданно сказал слова, остудившие всеобщее веселье и радость:
— Теперь нам будет очень трудно. — И пояснил в ответ на недоуменные возгласы: — Раньше мы говорили то, о чем все молчали. Нам это дорого обходилось, но мы были впереди всех. А теперь каждый день люди читают в газетах, смотрят по телевизору вещи пострашнее, чем то, о чем мы им будем вечером говорить со сцены. И этот процесс будет развиваться дальше. К чему мы придем — сказать трудно. Но к старому возврата нет и не будет. Мы теряем свое оружие, и теперь придется искать все заново: темы, приемы, образы. Надо готовиться к этому.
В помещении, где мы заседали, вдруг стало тихо. Наверное, то, о чем сказал Аркадий Исаакович, в голову никому не приходило. Но все сразу поняли, что Райкин прав: своим мудрым взором он увидел то, над чем многие не задумывались. Будущее показало, что он очень точно все предсказал. Поэтому, наверное, в тот день он был невесел и замкнут: знал, куда мы придем. И это его никак не радовало. Райкин сказал не все, о чем думал. Но подтекст его выступления был ясен.
Кремлевский Дворец съездов. Один из торжественных театрализованных концертов в недолгую андроповскую эпоху. Райкин принимал в нем участие. Он, в отличие от распространенного мнения, чрезвычайно редко участвовал в таких мероприятиях: его обычно вычеркивали — «на всякий случай». Очень боялись. Я сам не раз слышал: «Еще выкинет что-нибудь, ляпнет такое!..», «Человек он неуправляемый, непредсказуемый»...
Выслушал я это и на сей раз. Тем не менее Райкина допустили (!).
И вот мы сидим с Аркадием Исааковичем в моей режиссерской комнате в КДС, отбираем, что ему исполнить в концерте.
Все концерты такого ранга принимались, как полеты в космос, правительственной комиссией. Свою порцию «комплиментов» мы с Райкиным уже получили накануне, после генеральной репетиции. В «предбаннике» ложи дирекции КДС, за неизменным круглым столом, где обычно проходили «зубодробительные» обсуждения готовящихся концертов, заместитель Председателя Совета Министров долго и ядовито-тихо ругал меня.
За все: за программу, за режиссуру, музыку, свет, декорации. Задел он и Райкина, сказав, что «товарищ Райкин» неверно, с политической точки зрения, освещает определенные темы.
Аркадий Исаакович не дал ему договорить. Глаза его запылали. Мне даже показалось, что от огня райкинских глаз задымился пиджак зампреда.
Вдоволь наглядевшись на него, Аркадий Исаакович тихим голосом, может быть, невольно пародируя, сказал:
— А вам не кажется, товарищ заместитель Председателя Совета Министров (назвал его не по имени-отчеству-фамилии, а полным титулом), что вы спутали искусство с передовицей в газете? — помолчав, добавил: — ...В газете «Правда»?
Последовавшая за этим немая сцена, наверное, была достойна финала «Ревизора». Совещание «свернули», всех отпустили, мне «указали» объяснить Райкину, что он с концерта снят. Я категорически возразил, заявив сгоряча, что не хочу оставаться в истории эстрады в роли палача, «вырубившего» Райкина из концерта. Мое заявление было встречено красноречивым переглядыванием «руководящих товарищей». Потом была сказана сакраментальная фраза: «Значит, товарищ Шароев берет это на себя».
На том и разошлись. Настроение у меня было нерадостное. Но на следующий день мы с Аркадием Исааковичем, которому я, конечно, не сообщил о «руководящем указании», решали, что ему исполнять. В небольшой режиссерской комнате в КДС я стал единственным зрителем уникального концерта, который Райкин давал для меня. Он читает одну вещь за другой. Я, зная, что меня ждет после концерта, отметаю их. Райкин усмехается, понимая мое положение. Вдруг обращается ко мне: «Скажите, а вам не кажется, что вот мы сейчас с вами...»
Оживившись от его сердечного, заинтересованного тона, во власти его глубоких темных глаз, я начинаю ему отвечать. Аркадий Исаакович поднимает предостерегающе руку, чтобы я не мешал. Оказывается, это он начал читать новый монолог, которого я не знал: поймал меня на удочку классически...
Потом, вспоминая о нашей беседе, я понял, почему «попался». Райкин настолько естественно и доверительно начал читать монолог, что не ошибиться было невозможно. Райкинское исполнительское творчество заключало в себе удивительный феномен — жизненную правду, доведенную до совершенства, но заключенную в резкую эксцентрическую форму. Вот уж точно — система Станиславского в действии! Не случайно старые мхатовские мастера так ценили райкинское искусство, считая артиста своим, исповедующим их принципы, — настолько правдив и органичен он был в своем исполнительском искусстве. А эксцентрическая форма, доведенная до пределов выразительности, до гротеска, до символа, — это от В. Мейерхольда, перешедшая через его ученика В. Соловьева к А. Райкину — соловьевскому ученику. И, конечно, это отзвуки вахтанговской школы — ее стремительная, острая форма театральной выразительности.
...Концертный номер тогда мы выбрали. Это был один из самых «опасных» по тому времени: «Монолог директора». Видя мое волнение и, конечно, понимая сложное положение, в котором я оказался, Аркадий Исаакович, посмотрев на меня сочувственно и снисходительно, успокоил меня своеобразно: «А знаете, Кимушка, почему я получил Героя? Потому что не боялся. Никого и никогда».
С этим напутствием я и отправился на сцену КДС «запускать» праздничный концерт, от которого ничего, кроме «оргвыводов», не ожидал.
Я любил наблюдать за Райкиным, когда он не чувствовал, что на него смотрят, а был занят самим собой — весь в своей второй (и главной) жизни. Особенно интересно было смотреть за ним, когда он готовился к выходу.
...Вот он стоит в темном пространстве у кулисы, держа в руках целую батарею пузырьков с лекарствами. Его провожают до Центра огромной сцены КДС — он не может выходить из кулис: его выбивает долгий, нудный проход по сцене к микрофонам. Он должен быть в центре сцены, одним движением развернуть занавес, сделать стремительный шаг, внезапно оказавшись перед залом, задернуть занавес за собой и остаться в лучах, даря зрителям «райкинскую» улыбку.
Несколько минут до выхода. Перед выходом Райкин отдает режиссеру Анне Одиноковой все лекарства, лизнув напоследок прямо из пузырька смесь нитроглицерина с валерьянкой. И дальше — все исчезает. Его нет. Он улетает куда-то, в тайну своего «я». И (вижу это не в первый раз) у него начинают ходить скулы. Он не видит людей, не слышит их, говорить с ним в эти минуты бесполезно. Скулы ходят все сильнее и сильнее, взгляд из-под полузакрытых век... Только губы шепчут что-то беззвучно. Весь напружинился, превратился в какую-то большую птицу, приготовившуюся взлететь.
Вот объявляют его. Миг — он вскидывается. И нет, не делает шаг на сцену, он — взлетает: тело его становится легким, стремительным, приобретает какую-то полетную пластику. Это уже не руки, а взмах крыльев, еще миг — и он устремляется в полет, счастливый, открытый, улыбчивый, человек-птица, парящий над землею...
Выступал Аркадий Исаакович в тот вечер прекрасно, видно, что он в ударе. Читал смелый, откровенный «Монолог директора». На мониторе, вмонтированном в режиссерский пульт, мне видно, как хохочут и аплодируют Андропов и его окружение. Райкин заканчивает свой монолог, берется за занавес и, улыбаясь, под овацию зала делает шаг назад, задергивает занавес и... падает, потеряв сознание, на руки режиссерской группы. Мы несем его за кулисы. Паника, беготня, дежурные врачи...
Концерт шел своим чередом: артисты, ансамбли, оркестры... А в тесной дежурке в углу сцены КДС сидел после укола Райкин — тихий, кроткий, улыбающийся какой-то виноватой улыбкой: «Кимушка, видите, как бывает...»
Аркадий Исаакович неоднократно повторял, что артист должен творить, отдавая всего себя, не жалея, не щадя ни нервов своих, ни сердца. Он с полным правом говорил это, ибо сам никогда себя не жалел и играл всегда так, словно это — в последний раз. Иначе нет творчества, нет художника.
Гремит музыка, летают по огромной сцене стройные юные танцоры, звучат голоса певцов, многократно усиленные микрофонами... А в полутемном углу сцены сидит в одиночестве, забытый в суматохе громкого концерта тихий гений...
Махмуд Эсамбаев
В декабре 1988 года Дом творчества композиторов в подмосковной Рузе на двое суток был «оккупирован» эстрадой. Здесь, в прекрасном сосновом лесу, проводилась Всесоюзная учредительная конференция, чтобы создать Ассоциацию деятелей эстрадного искусства, первую в истории нашей эстрады общественную организацию. Мы долго добивались этого. Такого рода объединения давно есть у деятелей театра, кино, у композиторов, художников, архитекторов, чтобы защищать не только профессиональные, но и человеческие права тех, кто отдал жизнь своему делу.
Со всей страны, со всех республик съехались в Рузу представители этого вида искусства. Два дня в тихой Рузе бушевали страсти. Все эстрадные несчастья — обиды, несправедливость, неустроенность, бесправность актеров, масса других нерешенных проблем — стали предметом острых выступлений. И все были единодушны: необходимо создать свою организацию, призванную не давить и душить эстраду, а помогать ей. Конечно, встал вопрос — кто же возглавит ее?
Разные были кандидатуры, среди них — люди достойные и серьезные. Но когда мной было названо имя Махмуда Эсамбаева, весь зал встал, приветствуя его. Эсамбаев был единогласно избран председателем Ассоциации деятелей эстрады СССР. (Теперь это — Международный союз деятелей эстрадного искусства.) Потому что уважение к этому человеку безгранично у всех — и у старых мастеров, и у эстрадной молодежи.

Непревзойденный Махмуд Эсамбаев — «Золотой Бог»
Махмуд Эсамбаев — человек-легенда. Человек редкого таланта и фантастической судьбы. Самородок, вышедший из самых глубин народных, упорнейшим трудом достигший вершин мастерства.
Сегодня, когда все знают о его блистательном творчестве, кажется, что триумф всегда сопровождал артиста и многое, как говорится, «само плыло в руки». На самом же деле судьба Эсамбаева далеко не проста.
Крупнейший мастер танца, он прошел трудную жизнь, полную тревог. Трагическая судьба чеченского народа, мрачной волею Сталина и Берии выселенного с Кавказа на чужбину, в Среднюю Азию, отразилась и на жизни Махмуда, одного из многих его сыновей. Но эта судьба и закалила их в борьбе за выживание, выковав их бойцовские характеры. Этими качествами был наделен и юный Махмуд.
В его детстве и юности даже близкие люди не могли предположить, что ему суждено стать выдающимся мастером эстрады. Национальные традиции, семейный уклад, нежелание старших видеть юношу артистом — все это преодолел Махмуд. Преодолел, потому что верил в свое предназначение.
Успеху Эсамбаева, конечно, способствовали природные данные: высокая стройная фигура, необычайно большой шаг, скульптурно выразительное лицо, музыкальность и главное — чрезвычайно «талантливое» тело, способное передавать какое-то непрекращающееся, струящееся движение.
Трудно поверить, но танцу он нигде не обучался, не заканчивал никаких хореографических училищ. Вся профессиональная школа Эсамбаева — балетная труппа Киргизского театра оперы и балета, куда он поступил уже юношей. Тогда, в пору эсамбаевской юности, в этом театре были отличные педагоги — В. Козлов и Н. Жуков, — обладавшие особым чутьем распознавать скрытые до времени таланты.
В Киргизском, а впоследствии и в Казахском оперном театре, Махмуда заметили, поверили в него, стали поручать роли в балетах. В Казахском оперном театре он танцевал в «Бахчисарайском фонтане», в котором участвовала приехавшая на гастроли Г. С. Уланова. Впоследствии великая балерина об Эсамбаеве иначе, как об уникальном явлении, не говорила.
Тогда же проявилась одна из черт характера артиста — одержимость в работе: Махмуд прекрасно понимал, что он «опаздывает» по возрасту. Не считаясь со временем, несмотря на усталость, скудную материальную жизнь, он работал, как никто, стремясь овладеть профессиональными навыками, наверстать не по его вине упущенное.
И победил: то, чем танцоры овладевают еще в детстве, Эсамбаев овладел уже будучи сложившимся человеком. И добился своего — вопреки природе, вопреки возрасту: технические трудности были преодолены, он в совершенстве овладел танцевальным мастерством. Феномен Эсамбаева создали труд, талант, одержимость, неустанное стремление к совершенству.
Эсамбаев — фанатик своего дела. Вдохновенный. Влюбленный в танец.
«Танец — моя жизнь», — говорит он. И всей своей жизнью подтверждает это.
Долголетие танцевальной жизни Эсамбаева — феноменально. Он начал танцевать на эстраде еще в середине 40-х годов. Но и сегодня, в начале 90-х, он в отличной творческой форме. И сегодня он такой же стройный, тот же огонь в глазах, та же стремительность. И его «жизнь в танце» продолжается — наполненная, интересная, талантливая.
Я обязательно должен рассказать об одной черте характера Эсамбаева. Он — добрый человек: много помогает людям, борется за справедливое к ним отношение, помогает с пенсиями, ставками... Так уж он устроен.
Дом у него всегда полон народа — и не только потому, что он по-кавказски чрезвычайно гостеприимный человек. Эсамбаев все время в движении: у него постоянно звонит телефон, полно людей, пришедших с просьбами. Когда он отдыхает — не знаю. Наверное, Эсамбаев и не может отдыхать — его тяготит покой. В нем постоянно бурлят жизненные силы, он должен быть среди людей.
Эсамбаев сказал однажды: «Люди коллекционируют вещи, а я — танцы». В своих многолетних гастролях и по нашей стране, и по миру он не просто собирал танцы — он их переосмысливал, дополнял, примеряя на себя. Так постепенно возник уникальный эсамбаевский спектакль «Танцы народов мира», где каждый эпизод представлял ту или иную страну и был, в свою очередь, своеобразным мини-спектаклем. В театрализованной форме Эсамбаев показывал не просто национальный танец, а нечто более ценное и непреходящее: душу народа. Он поражал глубиной артистического проникновения в пластику, национальную музыку, ритмику.
Эсамбаев — великий мастер перевоплощения. В течение одного вечера перед зрителями проходила целая галерея удивительных по точности и национальному своеобразию хореографических портретов.
В его актерском таланте я убедился давно, еще когда ставил в Московском театре эстрады спектакль «Пришедший в завтра». По замыслу мне был нужен образ механического бездушия, воплощенного омертвения. Я пробовал и пантомиму, и танцы — все не соответствовало стилистике постановки. Спектакль уже шел, а я продолжал носиться с идеей сделать такой эпизод.
На одно из первых представлений пришел Махмуд. Мы с ним долго беседовали после окончания, и меня осенило — эсамбаевский «Автомат»! Вот чего мне не хватало!
Я уговорил Махмуда войти в спектакль, и он согласился. Мы сразу же прошли на сцену и стали придумывать, как пластически связать этот номер с общим действием. Мы репетировали с Эсамбаевым несколько дней. Вот тогда я понял, что значит работать с ним! Он танцевал этот номер уже не один год, у него был выверен каждый жест. Но его волновало — как он впишется в спектакль, где много стихов, песен, игровых сцен, пантомимы, акробатики, эксцентрики, киноматериала.
«Автомат» возникал в спектакле в статичной мизансцене: его в полной тишине вывозили из глубины сцены на круге. Выхваченный из темноты узким лучом, этот выход (а точнее, выезд) Эсамбаева производил впечатление чего-то нереального, потустороннего. Вступала музыка, и манекен постепенно оживал: приходили в движение пальцы, руки, ноги. Возникала уникальная эсамбаевская пластика: движения «Автомата» механистичны, предельно условны и создают впечатление, что перед тобой робот, послушно выполняющий чью-то злую погибельную волю. Это было трагическое и глубокое артистическое создание.
С тех пор мы подружились с Эсамбаевым, и наша дружба продолжается по сегодняшний день. Это очень характерно для Махмуда — он выбирает друзей навсегда.
А какой Эсамбаев выдающийся мим!
Об этом, наверное, мало кто знает, ибо в пантомиме он на зрителе не появляется. Мне повезло — я знаю.
Однажды после спектакля мы с Махмудом поехали домой к моей матери, Валентине Николаевне, просидели в кругу нашей семьи до глубокой ночи. За столом главенствовал Эсамбаев.
Сколько было шуток, смеху, сколько прекрасных актерских импровизаций! Потом он стал показывать посреди большой комнаты эксцентрические пантомимы. Это был каскад образов с таким мастерством перевоплощения и такой пластической точностью рисунка, что все были в восторге. А он все продолжал импровизировать — увлеченно, самозабвенно, хотя перед ним был не тысячный зал, а всего трое зрителей, хотя уже была глубокая ночь, а позади — спектакль, дневные репетиции, ежедневная суета и неизбежная трата нервов...
Его сценические создания навсегда останутся в истории эстрады. Это и фантастический «Золотой бог», где пластически выражены образы: и вод Ганга, и медленно восходящего солнца, и солнца, почти незаметно скрывающегося за горизонтом, и всей той таинственной стихии, которая для нас навсегда связана с понятием Индия.
Это и трагическая «Макумба», где артист не просто воссоздает бразильский танец, а где происходит титаническая борьба Человека с силой, угнетающей его, и заканчивающаяся торжеством Человека над силами зла.
Это и упоминавшийся выше «Автомат»...
Влияние эсамбаевского творчества трудно переоценить. Вот уже несколько поколений эстрадных танцовщиков находится под «током высокого напряжения» его личности, и то, что открыто в танце Эсамбаевым, оказалось открытием для всех, стимулом для новых поисков молодых.
Поющая душа России
Есть ли в стране человек, не слышавший ее и о ней? Вряд ли. Ее знают и любят миллионы.
За голос изумительный. За талант и мастерство. За те песни, которые от нее пошли в народ, и их запела вся великая Россия.
Почему же так произошло? Разве до нее не было русских певиц?
Были, да какие! Достаточно вспомнить Л. А. Русланову, И. П. Яунзем, А. А. Прокошину. Какие это были мастера русской песни, каких вершин достигли они в творчестве!
Но вот пришла Она. И началась новая эра русской песни.
Я очень горжусь тем, что в ее легендарной судьбе есть и доля моего участия. Пусть скромная, но есть.
В начале 1960 года, когда я еще был главным режиссером ВГКО, я ввел регулярные просмотры артистов, желающих поступить на эстраду.
Проходили они два раза в месяц в полуподвальном клубе Министерства финансов, на проезде Владимирова. Как правило, перед этим я беседовал с артистами, и нередко это заканчивалось тем, что артиста и не стоило просматривать: ведь разные люди появлялись в моем кабинете. Зачастую совершенно случайные, а бывало — и просто «чайники», как их называла моя секретарша. Бывшая артистка, она была чрезвычайно любезна с представителями мужского пола, особенно с молодыми, и пропускала их в мой кабинет, но строго обращалась с женской половиной населения, особенно — с молодыми его представительницами. И совершенно «зверела», когда перед ее взором возникала не только молодая, но еще и красивая. Тут уж она под любым предлогом преграждала путь ко мне.

Поющая душа России — Людмила Зыкина
Вот так долго она не пускала высокую, стройную, черноокую красавицу, которая хотела участвовать в прослушивании. Но молодая певица все-таки прорвалась в кабинет, когда мой Аргус зазевался. У нас состоялась беседа. Она рассказала, как дома, в Черемушках, которые тогда были еще Подмосковьем, с детства слышала русские песни от родителей, хорошо знавших и любивших их. Маленькой девочкой и она стала петь народные песни. Началась война, и девочку взяли на завод, хотя было ей 11 лет (она выдала себя за четырнадцатилетнюю).
По вечерам пела в клубе Черемушкинского совхоза. А затем услышала, что в хор имени Пятницкого объявили конкурс. Она решилась и — пошла. Хотя знала, что конкурс — фантастический: всего четыре места и четыре тысячи участников. По тысяче на одно место!
Надо отдать должное — в хоре имени Пятницкого умели подбирать исполнителей. Из четырех тысяч выбрали четырех, и среди них — нашу героиню. Замечательные мастера русского фольклора, имена которых тогда украшали главный хор России, были и прекрасными педагогами.
Я представляю себе приемную комиссию, в которой — В. Г. Захаров, П. М. Казьмин, Т. А. Устинова, А. А. Прокошина — гордость русского народного искусства. И перед ними — шестнадцатилетняя черноглазая девочка, страшно волнующаяся, прекрасно понимающая, что решается ее судьба: идти ли ей в токари, или же ей светит иное...
Она прошла отличную школу в этом хоре: училась не только петь, но и «играть» песню, как это принято в народе.
Меня подкупило тогда, с каким уважением моя собеседница рассказывала о своих учителях. Выдающиеся мастера — В. Клоднина и А. Прокошина — передали юной певице многие секреты исполнительства; учили ее не просто хорошо спеть, а душевно и искренне рассказать песню — ее смысл, подтекст и ту тайну, которая есть в каждой русской народной песне. Пришло время, и молодая певица стала солисткой хора. Ей было всего 18 лет. А в 22 года она перешла из хора имени Пятницкого в хор русской песни Всесоюзного радио.
Но несмотря на то, что она уже была солисткой, учебы не прекращала. Много дало ей общение с Л. А. Руслановой — пожалуй, самой крупной ее предшественницей в искусстве. Так, по крупицам, складывалось мастерство, наливалось силой.
Казалось бы, творческая жизнь певицы уже сложилась и сложилась удачно. Но она не успокоилась. Все больше и больше ощущала она тягу к непосредственному общению со зрительным залом, хотела иметь возможность обращаться к людям, видеть их глаза, слышать их дыхание, каждый раз проверяя себя, — дошла ли песня до сердца, нашла ли отклик? На радио, несмотря ни на какие «письма радиослушателей», понять этого до конца было нельзя.
В ней окончательно созрело решение. И она пришла в ВГКО. А я не знал, не ведал, какому сокровищу преграждал путь недремлющий страж у моих дверей.
Молодая певица оказалась человеком серьезным и творческим и была приглашена на очередное прослушивание.
Тот день запомнился мне на всю жизнь. Многочасовой просмотр был малоинтересен: народу полно, а толку — почти никакого. На маленькой сцене полуподвального клуба пели, танцевали, играли, читали те, кто претендовал на поступление в ВГКО. Моя грозная секретарша хозяйничала за кулисами, выпуская артистов на сцену. Может быть, поэтому молодая певица оказалась чуть ли не последней, и ей пришлось выступать в самых невыгодных условиях: после четырех часов работы комиссия, в которую входили крупные мастера, почти что дремала во тьме зала. Настроение у всех было унылое.
Но вот вышла Она в сопровождении баяниста. Волновалась, конечно, ужасно — просмотр вообще не лучшее место для выявления артистических дарований. Тут неизбежно проявляются все актерские комплексы: боязнь провалиться, зажатость от чужого окружения, ощущение своей ненужности, конкуренция, а для певцов еще и ощущение «больного горла» и невозможности спеть в полную силу. Столько актерских нервов было истрачено в бесчисленных просмотрах, которые пришлось мне провести за год в полутемном клубном помещении! Не счесть!
Молодая певица понимала всю невыгодность и почти безнадежность своего положения — выступать перед утомленной и потому раздраженной и заранее настроенной на неприятие комиссией. Но сумела собраться. Баянист выжидательно смотрел на нее. А она все не начинала, стояла, опустив глаза, и молчала: погружалась в свой мир, в свою душу, словно вызывая ее к действию, к общению с людьми. Пауза настолько затянулась, что из-за кулис появилось раздраженное лицо секретарши: «Что же это такое?!» Я дал знак, чтобы она успокоилась.
И вот певица запела. Полилась негромкая, задумчивая, бесконечно плавная мелодия. И — печальная.
Как же Она пела! Голос ее, необычайного тембра — глубокий, чистый, переливчатый, с мягкими оттенками, свободно и легко льющийся, — вызывал ощущение беспредельности российских просторов.
То не было просто пение. Это была исповедь души. Это был задушевный разговор — искренний, откровенный.
И еще — это было пространство песни.
Только потом, через многие годы, я пришел к этому определению. А тогда — просто ощущал, как от звучания ее голоса раздвинулись, как в сказке, низкие стены зала, раскрылся потолок, и почудилось «мыслимое пространство»: распахнутое над головой небо с белоснежными облачками; равнинные тихие реки, неспешно катящие светлые воды к далекому морю; светло-прозрачная березовая роща, вся пронизанная солнечными лучами; стаи птиц, летящих с юга на родину; вся та мощь и сила лирическая, что подспудно живет в душе каждого из нас и что зовется — Россией...
И над всем этим звучал и звучал дивный голос...
Боже, какое это было счастье — встреча с таким дарованием, с человеком, обладающим такой внутренней силой! Комиссия встрепенулась, изумленная. Обычно скептически настроенные (а для этого достаточно оснований на каждом просмотре), эти люди были ошеломлены — все поздравляли друг друга. Наконец-то!
Я бросился к управляющему ВГКО с требованием немедленно зачислить молодую певицу к нам. Но получил отказ — «нельзя без конкурса, запрещено законом». А конкурс — через полгода. Тогда я отправился в Министерство культуры — благо оно находилось за углом. В кабинете начальника Музыкального управления А. А. Холодилина произнес пламенную речь.
Холодилин прервал: «Что ты меня агитируешь? Я знаю ее еще по хору имени Пятницкого. Прекрасная певица. А на радио ей непривычно. Конечно, ей надо на эстраду». И тут же позвонил в ВГКО, дал указание немедленно оформить приказ о зачислении.
Торжествуя, я вернулся к себе и увидел недовольную физиономию управляющего: опять я сделал все через его голову. Многое приходилось делать именно так, иначе было не пробить бюрократическую «бетонность» ВГКО. Дружбе с административным руководством это, конечно, не способствовало. Увидя такую, обычную для чиновничьих мозгов, реакцию на происшедшее, я остался в ВГКО до конца дня, пока у меня на руках не появился приказ о зачислении певицы «с сего числа».
Вскоре мне пришлось быть режиссером большого театрализованного концерта в Кремлевском театре (это было в 1960 году, Кремлевский Дворец съездов тогда еще только строился, и большие концерты шли в Кремлевском театре). Я включил малоизвестную еще певицу в число исполнителей. Мне предложили «не рисковать», учитывая высокий уровень и ответственность концерта. И обычное: «Опять эти шароевские авантюры!» Но удалось убедить всех в предстоящем успехе. С молодой певицей шла подготовительная работа: отбирались песни, костюмы, проводились специальные акустические репетиции.
Волнение в день выступления было огромное. Больших концертов тогда было еще мало — всего несколько в году, и наш был заметным событием в культурной жизни страны, был как бы творческим отчетом мастеров искусств России. Он транслировался по радио и телевидению.
Молодая дебютантка имела огромный успех: в тот день ее имя узнала вся страна. Вскоре, на I Всероссийском конкурсе артистов эстрады певица по праву своего таланта заняла первое место. Началась ее звездная судьба.
В течение многих лет мы встречались с ней во время ее выступлений в Кремлевском Дворце съездов, в концертах Дней культуры СССР и РСФСР в разных странах. Слава ее росла, но сама она оставалась все той же, какой я запомнил ее в нашу первую встречу, — искренней, простой, без позы и игры, с открытой душой. Известность не испортила ее. Она осталась хорошим другом, товарищем. Это довольно-таки редкий случай в актерской среде. Обычно немало свидетельств иных проявлений артистических натур...
Талант ее становился многограннее. Ей стало доступно все: и величальная песня, и плач, и шуточная песня. В ней проявилось и другое удивительное качество — драматический талант.
Ее песенные монологи, исповедь души всегда ведутся «от себя», и это лирическое «я» придает им ту пронзительную выразительность, которая достигается не только пением, но и блестящим актерским дарованием. В ее исполнении русская песня наполнилась удивительным теплом, сердечным проникновением, раздумьями о судьбах людских, о доли женской, о судьбах своего народа.
С особенной силой сказалось это в жанре, требующем предельного напряжения и самоотдачи, — в жанре патетическом.
Вспоминаю концерт в Кремлевском Дворце съездов. Одной из кульминаций действия был эпизод «Памяти героев».
Привожу его по своему сценарию. «В узком луче — молодой воин. Он бросает в зал опаленные огнем боев стихи юных поэтов, погибших, защищая Родину. Чтение стихов вводит нас в атмосферу военной тревоги, атмосферу боя.
И как воспоминание о легендарном времени всенародного подвига звучит «Песня защитников Москвы»: военный хор, исполняющий ее (плащ-палатки, каски, автоматы), стоит на фоне экрана, словно внутри событий, возникающих на вертикальной плоскости. Хроникальные кадры: разрывы бомб, танковая атака, пикирующие самолеты, бросок пехоты против танков.
На экране еще идет хроника, а вертикальное пространство увеличивается: над экраном возникает грозовое небо, и дымы пожарищ и взрывов слились с огромным небом...
...Грозовое небо над Россией. Отблески зарниц. Тревога и опасность.
Издалека звучит солдатский баян, под звуки которого из темноты — словно страница перевернулась — перед нами появляется картина войны. Короткий солдатский отдых. Тревожное известие о приближающихся немецких танках. Нарастающий грохот, лязг, скрежет.
Со всех сторон — пронзительные лучи фар.
И вот — кровавый бой с танками, вся сцена — сплошное полыхание багрового пламени, в котором один за другим погибают 28 легендарных гвардейцев...
На сцене — последние оставшиеся в живых солдаты, держащие в окровавленных руках пробитое знамя. Последний залп. Вздрогнул солдат, пошатнулся, но не упал. Огромным усилием воли он поднялся, и остался стоять со знаменем.
...Вдали возникает огонь, разгорается.
Под звуки далекого марша в глубине сцены возникают знамена, склоненные у Вечного огня, и лучами постепенно высвечиваются военные музыканты, стоящие вокруг.
Звучит торжественный марш в память о героях Великой Отечественной...
...Герои-панфиловцы медленно поднимаются и встают — окровавленные, в копоти и дыму сражения. Все громче и победнее звучит военный оркестр. У Вечного огня торжественным маршем идут войска, отдавая дань памяти героям народа... Только к этому моменту раскрывается вся огромная сцена.
Мы видим многослойную, многоступенчатую композицию: на первом плане, словно скульптурные группы, выхваченные узкими лучами, 28 панфиловцев. За ними — сверкающий медью сводный военный духовой оркестр Министерства обороны, поднимающийся стройными рядами по плоскостям плунжеров к Вечному огню, находящемуся в центре. А вдали, в самой верхней части сцены — склоненные знамена и войска, четким шагом проходящие у Вечного огня.
Гремит марш...
На смену грому духового оркестра и маршу войск у Вечного огня появляется женщина в русском костюме и негромкой печальной песней обращается к героям России...»
Надо себе представить, как было страшно для артистки выходить с тихой песней после такого шума, грохота, напряженной пластической динамики!
Но она согласилась...
И вот у Вечного огня появилась русская женщина и, медленно спускаясь по многочисленным ступенькам, ведущим от постамента к авансцене, запела тихо, проникновенно: «Лишь ты могла, моя Россия...»
Какой контраст, какая неожиданная остановка, какой, казалось бы, спад эмоциональности!..
Нет, все совсем наоборот!
Именно тихая, печальная песня стала самой высокой эмоциональной точкой всей этой громкозвучной массовой сцены.
И пела ее наша героиня так, что удержаться от слез было невозможно! Столько в ее пении было нежности, горя, прощания с уходящими в небытие сыновьями и братьями, что показалось, будто сама песенная Россия склонилась в низком поклоне перед памятью прекрасных сыновей своих.
И мне тогда стала ясна одна из притягательных тайн творчества певицы — ее гражданственность. Верное и точное ощущение себя дочерью родины, России — Матери...
Прошли годы. Многое изменилось в мире, в стране, в жизни каждого из нас. Мы уже не те, какими были тогда, в бурные, молодые годы.
Но настоящее искусство неподвластно ни времени, ни «ветру перемен».
Поет Людмила Зыкина, звучит дивный ее голос, исполненный красоты изумительной. Голос, который узнаешь с первой же ноты. Неповторимый голос прекрасной певицы, ставшей для миллионов людей собирательным образом не только русской женщины, а более значительным символом — символом самой России.
И звенит, и летит над неумолимым временем голос Людмилы Зыкиной — поющая душа России...
Михаил Михайлович
Когда он прочтет эту главу о себе (а я надеюсь, что моя книга попадется ему на глаза), думаю, будет разочарован. Михаил Жванецкий — при его остром ощущении построения фразы, каждого слова, ритма, блистательного юмора — боюсь, будет недоволен этим бледным эскизом о нем.
Но мне так хотелось рассказать о Михаиле Михайловиче. Я очень люблю этого человека — такого неординарного, неожиданного.
Творчество его — мудро. Он никогда никого не развлекал. И ничего не боялся — даже в опасные времена.
В самые сложные годы он оставался самим собой. Никогда не подлаживался, не льстил, не приспосабливался. Знал только одну дорогу — открытую и справедливую.
И этой позиции не изменял.

С Михаилом Жванецким — «первой перчаткой отечественной сатиры»
С Михаилом Жванецким мы повстречались давно — в году 1969-м или 1970-м. Тогда он стал появляться в Москве. До этого пробовал свои силы в Одессе и Ленинграде.
В 1972 году, когда я был художественным руководителем Росконцерта, Жванецкий приехал в Москву и зашел ко мне. Мы разговорились, и я так не хотел, чтобы он уходил, что предложил ему посидеть у меня в кабинете. Он взял стул, примостился за роялем и достал блокнот. Так он сидел, тихо бормоча и что-то записывая. Тот день был у меня суматошным: в очередной раз «горело» гастрольное лето, и в кабинете шло совещание за совещанием.
Проходили они, как всегда в эстраде, бурно. Иногда страсти накалялись до истерики. А в таком запале люди зачастую несут такое, что диву даешься. Потом, спохватившись, останавливаются, приходят в себя, и бывает стыдно за сказанное. Но слово-то ведь уже сказано!
Такого рода «эмоций» за те часы, что Жванецкий находился у меня в кабинете, было выплеснуто много. Внимания на него никто не обращал, да и не все замечали его: такой был у всех лихорадочный день. А Жванецкий не уходил, терпеливо сидя за роялем. К концу дня я наконец вызволил его оттуда, и он вышел из своего убежища неожиданно веселый и довольный.
— Я-то, понятно, по необходимости все это слушал, а ты-то как выдержал это?
— Все очень хорошо! Материал, по крайней мере на три фельетона, у меня теперь есть! — бодро ответил мой гость.
В 1979 году мы встретились с ним в Кисловодске, в санатории имени Орджоникидзе, что находится выше Красных камней и недалеко от Красного солнышка.
Жванецкий был очень мил, приветлив. В то лето мы и сдружились с ним. Тогда он был уже в славе, его одолевали, что-то просили, докучали. Я же от него ничего не требовал, может быть, поэтому мы и провели почти месяц вдвоем, под ослепительным солнцем, дыша чистым воздухом горных вершин.
Ежедневно совершали прогулки: на Малое и Большое седло, бродили по Синим горам, пили воду из горных родников, любовались с вершины Большого седла сахарными вершинами Эльбруса и всей сказочной картиной Кавказа. Настроение у нас было прекрасное, никого из знакомых мы не встречали, ничего не напоминало о Москве, работе, обязанностях.
Там, в горах, Жванецкий много рассказывал о себе: как трудно начинал, как не сразу и нелегко пришел к самостоятельному творчеству.
Окончив Одесский институт инженеров морского флота, он работал в порту. Рядом с ним работал и Виктор Ильченко. В ночные смены, в свободное время, у них было любимое занятие — слушать записи Райкина. Еще учась в институте, они с Ильченко создали студенческий театр миниатюр «Парнас-2». Затем к ним присоединился Роман Карцев — в то время «крупный специалист»... по швейным машинам. Это дружное трио сложилось еще в 50-е годы; найдя друг друга, молодые люди теперь лучшие свои работы делали вместе.
В 1960 году они приехали в Ленинград, встретились с Райкиным и показали ему свой спектакль. И вскоре оказались в его театре: сначала Р. Карцев и В. Ильченко — актерами, позже — М. Жванецкий. Но с ним было сложнее. Он оставил Одессу, родной порт и подъемные краны, у подножья которых, видимо, должна была пройти вся его жизнь, и уехал в Ленинград. Но не в театр к Райкину, как гласит легенда, а просто так — в никуда.
Перебивался случайными заработками, жил неустроенно, как автор тогда никому не был нужен: его никто не исполнял и не печатал. Без дома, без семьи, без денег — так проходили «эстрадные университеты» Жванецкого. И не день, не месяц — несколько лет. Не каждый смог выдержать такое, не плюнуть на все, не вернуться домой, в теплую и сытую Одессу! Он — выдержал. Пережил эти годы, прошел через непонимание, непризнание.
На что он тогда надеялся? Ведь все складывалось не слишком удачно. Но он верил в свою звезду. И все эти годы не выходил из райкинского театра: постоянно сидел на репетициях и спектаклях, за свои деньги ездил на гастроли театра! Он пошел в ученики к гению. Он знал одно — надо научиться своему ремеслу. Надо познать все тайны сложнейшей профессии эстрадного сатирика, чтобы прийти потом к самостоятельному творчеству.
Великий Леонардо да Винчи сказал: «Ты должен нарушать правила не прежде, чем научишься следовать им». Жванецкий тогда, очевидно, Леонардо еще не читал, но следовал его завету неукоснительно. И писал, писал. Ему нужно было найти себя.
И вот — свершилось: Райкин наконец-то взял одну его миниатюру. Затем еще одну, и в 1967 году взял Жванецкого в театр — сначала актером, потом — завлитом. К этому времени у Райкина уже шел спектакль «Светофор», где Жванецкий был одним из авторов.
Райкин отбирал понравившееся. То, что оставалось, Жванецкий оставлял себе. Но в процессе отбора написанного для Райкина уже намечались ростки будущего конфликта. Судя по всему, Жванецкий писал не «на Райкина». Мне кажется, что он писал свое, Райкин только отбирал, примерял написанное на себя. Оставшееся после «примерки» было не хуже взятого. Просто это было дальше от Райкина и ближе к самому Жванецкому. Это и стало впоследствии основой его самостоятельных выступлений.
Пройдя райкинскую школу — школу, которой нет цены, — Жванецкий стал мастером, самостоятельным, со своей темой, с отличным от других авторским голосом. И, может быть, сам того не заметил, как перерос скромные рамки положения завлита. Он вышел за стены Ленинградского театра миниатюр — они стали тесны ему. Наступил момент, когда Райкин решил: Жванецкий уже вырос и в его присутствии в театре уже нет необходимости. Это был театр Райкина, где он был богом, и второго бога там не ждали.
Аркадий Исаакович уволил своего завлита. Да, именно уволил — Михаил Михайлович сам не раз говорил об этом. «Это была гибель!» — вспоминал он потом.
Жванецкий остался без театра, который за восемь лет работы стал для него родным домом, где творил любимый им Райкин, которого он иначе как «гений» и «великий актер» не называл. Этот уход, естественно, был тяжелым испытанием. Но сегодня все происшедшее представляется закономерным.
Кто знает, останься Жванецкий «при Райкине», он бы не вырос в такого художника, каким стал. Ему был необходим простор самостоятельного творчества, и, может быть, великий артист и великий сердцевед уловил раньше самого Жванецкого, что час этот наступил. Уход от Райкина был необходим: ученик созрел для самостоятельного полета.
Так уже уходили от своих учителей ученики, сами ставшие творцами.
Так ушел от Станиславского любящий его молодой Мейерхольд, так ушел от Мейерхольда (вернее, изгнан мастером) юный Эйзенштейн.
Вечная проблема в искусстве — учитель и ученик. Взаимоотношения между ними часто парадоксальны, непредсказуемы, и строятся на двух противоположных силах — то центростремительной, то центробежной.
Так было и в отношениях Райкина и Жванецкого.
Но, покинув Райкина, Жванецкий уже не мог без эстрадного театра. Ему была необходима проверка произведения в живом исполнении, он должен был чувствовать интонации, видеть мизансцены, слышать реакцию зрительного зала.
И возникает Театр миниатюр в Одессе. Роман Карцев и Виктор Ильченко, уйдя за Жванецким от Райкина, становятся во главе этого театра. Эта неразлучная тройка вскоре приобрела всесоюзную славу. В 1970 году Р. Карцев и В. Ильченко стали лауреатами IV Всесоюзного конкурса артистов эстрады. Их успех по праву разделил их постоянный автор — М. Жванецкий.
...Обо всем этом я узнал во время наших совместных с Михаилом Михайловичем блужданий по кисловодским окрестностям.
Но что-то все время тревожило его тогда, и вдруг, не дожив санаторного срока, ничего не объясняя, бросил все и неожиданно уехал в Москву. Что его так тянуло в столицу — для меня осталось тайной.
Вскоре я получил от него письмо. Мне хочется его привести, потому что, как мне кажется, и в этом письме есть Жванецкий, есть его манера, стиль. И умение все — даже самое обычное — сделать смешным:
«Иоауаиауким Георгиевич!
По несвойственной мне рассеянности я забыл магнитофонные кассеты в тумбочке у кровати. Я им дал телеграмму. С, извини, просьбой передать их тебе для того, чтобы ты, извини, привез их в Москву. Извини!
А в общем, я стремился сюда, стремился, а делать здесь нечего. Тишина. Скука. Одно и то же. Здесь холод и дождь. Прощай, товарищ! Целуй там всех. Ваш (!) Жванецкий».
Тексты Михаила Жванецкого исполняют на эстраде не всегда верно, и от этого они многое теряют. Его старательно «играют», раскрашивая каждую фразу, каждое слово. Из-за этого уходит смысл, подтекст, своеобразный авторский стиль. Только Р. Карцев и В. Ильченко играли точно. Сказывалось многолетнее общение, совместная работа и общее понимание тех проблем, которые они поднимали.
Но все же лучше всех исполняет Жванецкого — сам Жванецкий. Он никогда не «играет», не изображает, а точно и строго идет по смыслу, по действию. И — что очень важно — никогда не пытается рассмешить.
Я слышал запись М. Зощенко — так читал свои рассказы великий сатирик.
У меня вообще невольно возникают параллели между Жванецким и Зощенко. Острейший взгляд сатирика, словно лазерный луч, проникает в самую суть явлений, гиперболизация характеров, поступков, доведение с ее помощью до полного абсурда — все это роднит двух Михал Михалычей.
Конечно, в руках Жванецкого — совершенно иной жизненный материал. И материал этот намного сложнее, нежели был в 20-30-е годы. Черты тогда еще только нарождавшегося быта — самоуверенное хамство, невежество, издевательство бюрократической машины над маленьким человеком и ответное желание забитых и нищих людей любым путем урвать хоть кусочек места под солнцем» — все это в наши дни стало неизмеримо масштабнее и сложнее. Хам, жлоб, ворюга превосходно научились маскироваться, используя для прикрытия любые формы общественной жизни. Все эти черные явления пустили сегодня в обществе глубокие корни, одной из их основ стала и мимикрия. Распознать явление, вытянуть его на свет, обнажить; расцветить точными приметами и деталями, дающими ему жизненную достоверность; облечь в эксцентрическую, зачастую парадоксальную форму; и наконец — высмеять так безжалостно, что сила этого смеха граничит с уничтожением. Вот сегодняшняя сатира в лучшем ее проявлении. И Михаил Жванецкий — самый яркий ее представитель.
Жванецкий никогда не смакует наши безобразия, подлости, пороки. В нем ощутима та же боль, что двигала и райкинским творчеством, — боль за людей, вынужденных пребывать в нашей грязи и серости. Но в этой боли нет безнадежности. Он человек веселый и остроумный, а значит — смотрит на все оптимистично. Потому что верит — жизнь еще можно исправить, улучшить. Не все так безнадежно, как кажется. Поэтому, рассказывая о всяческих безобразиях и нелепостях, он не лишает нас некоторой веры в то, что в нашей жизни будут и просветы. И без этой мудрой улыбки многое видящего и многое понимающего человека, наверное, не было бы у нас и такого своеобразного явления, как сатира Жванецкого.
То, что он сделал, стало классикой современной эстрады. И он далеко не высказался. Он еще выскажется. И нас ждет — я уверен — много неожиданного.
...Как-то в кисловодских горах я в шутку сказал, что начал понемногу ненавидеть его, ибо словечки и выражения, придуманные им, так рьяно подхвачены всеми, что никуда от них не деться. Все эти «отлично, Константин», «до того или после того»... Спасу от них не стало.
Михаил Михайлович уверял меня, что это преувеличение. И вот на станции фуникулера машинист узнал Жванецкого: видел его не раз по телевизору. Он подошел, познакомился, попросил у Жванецкого прислать новые записи его выступлений и начал сыпать: «отлично, Константин», «до того»... Словом, весь джентльменский набор. Возносясь в вагончике к Синим горам, мы смеялись тому, как жизнь неожиданно подтверждает наши разговоры.
Пока Жванецкий тихо сидел завлитом у Райкина, его не боялись. Очевидно, надеялись, что тем дело и кончится. Но ему необходимо было высказаться, тем более что было о чем и как говорить. Он стремился к залу, к зрителям, к их отклику. В живом исполнении, в общении с тысячами людей он стал обретать новые импульсы для своего творчества.
Стремление авторов на «живую эстраду» естественно. Оно есть не только у эстрадных сатириков — ведь и Е. Евтушенко, и А. Вознесенский, и Р. Рождественский, и Б. Окуджава всегда стремились непосредственно к людям.
Но и у них были предшественники: С. Есенин, В. Маяковский, который писал:
На сотни эстрад
бросает меня,
на тысячи глаз
молодежи...
У Жванецкого это стремление тоже было глубоко осознано. Он добился своего — его творческие вечера становились событиями в общественной жизни. Правда, от этого жить ему легче не стало. Наоборот. Власти заметили его и «оценили» по достоинству. И испугались. А испугавшись, стали «не пущать»: ни на страницы печати, ни в крупные залы, не давали жить в Москве, заставляя вести кочевую жизнь. Все это уже не раз было...
Правда, бывали случаи самые неожиданные. Однажды я был вызван «наверх» для уточнения программы концерта, который я ставил в Кремлевском Дворце съездов. Поднявшись на лифте и идя по коридору здания ЦК на Старой площади, я услышал голос Жванецкого, прерываемый дружным хохотом и аплодисментами. В полном изумлении я открыл дверь кабинета и увидел его хозяина, с улыбкой слушающего доносившийся из магнитофона один из самых смелых по тем временам монологов Жванецкого. Начальство смутилось, застигнутое врасплох, и со странной ухмылочкой своеобразно объяснило мне происходящее — что-то вроде: «Надо знать язык врага...»
ГИТИС
КАФЕДРА ЭСТРАДЫ
Наставникам, хранившим юность нашу»
В августе 1964 года в моей жизни начался новый период — педагогический. К тому времени, после скандала с Хрущевым, я больше года нигде на работал. То есть, конечно, работал, но нигде постоянно не числился. Из Москвы меня, по сути дела, выгнали, потом вернули и тихо спрятали в ГИТИСе, до лучших времен: тогдашний ректор, легендарный М. А. Горбунов и заместитель министра культуры РСФСР В. В. Кочетков уговорили меня преподавать в институте. Я согласился скрепя сердце.
ГИТИС для меня всегда был святым местом. Давным-давно, с самой юности, он стал для меня родным домом. И хотя теперь у него другое название, другой статус — Российская академия театрального искусства, — для многих поколений артистов и любителей театра он остался ГИТИСом. Так привычнее. Поэтому и в этой книге я буду его так называть. По-старому.
Наступил сентябрь, начался новый Учебный год. Уже несколько дней хожу по институту, где не бывал более десяти лет после его окончания. Меня не покидает чувство, будто я вернулся в юность: те же стены, те же аудитории, привычный коридорный шум в перерывах.
И главное — педагоги. Многие из тех, у которых я учился, тогда еще преподавали: Е. А. Акулов, В. Н. Мюллер, С. X. Гушанский, педагоги по речи, движению. И несравненный мушкетер, романтик, знаток всех боев всех народов А. Б. Немировский.
Но уже не появится в коридорах института выразительная фигура моего незабвенного учителя Л. В. Баратова, скончавшегося всего за несколько месяцев перед тем. Уже нет в живых А. Д. Попова, Н. М. Горчакова, А. М. Лобанова, С. С. Мокульского — выдающихся мастеров, само присутствие которых создавало удивительную атмосферу благородства, интеллигентности, высокого искусства. То был «золотой век» ГИТИСа, теперь уже — легендарное время. То была наша театральная юность, светлая, полная надежд, несмотря на сложности и драматизм политической жизни, окружавшей нас. ГИТИС был тогда как бы оазисом среди тяжких событий заката сталинской эпохи; в нем словно аккумулировалась духовная и душевная энергия великих мастеров, и эта энергия передавалась нам, молодым, питая веру в свое будущее.
...Я был принят в ГИТИС в общем-то случайно: был еще слишком юн для режиссерского факультета (в день коллоквиума мне исполнилось восемнадцать). Именно это совпадение сыграло свою роль.
19 августа 1948 года я предстал перед экзаменационной комиссией. В аудитории, за длинным столом, восседал режиссерский ареопаг, сверкавший множеством значков лауреатов Сталинских премий — тогда была мода их носить. Мне показалось, что ожили страницы книг о театре и режиссуре, прочитанных мною, — такие знакомые по фотографиям лица смотрели на меня: Ю. А. Завадский, Н. М. Горчаков, И. Я. Судаков, А. Д. Попов, А. М. Лобанов, Б. Е. Захава — цвет нашего театра, его гордость и слава.
За столом находился и Леонид Васильевич Баратов — тогдашний главный режиссер Большого театра, красивый, с классическим профилем, чем-то напоминавшим профиль Наполеона. (Я потом не раз слышал это от него самого, так же как и об одинаковом с Наполеоном росте и пульсе.) Он-то, пыхтя трубкой и несколько прищурясь, и задал мне первый вопрос:
— А сколько же вам лет, молодой человек, что вы собрались в режиссуру?
На это я, со смелостью своих лет, бодро выпалил, что мне сегодня исполнилось восемнадцать и надеюсь, что в такой радостный день комиссия не огорчит меня.
Усталые звезды, сидевшие за столом уже несколько часов, оживились, переглянулись и дружно рассмеялись. Ободренный этим, я уверенно продолжал отвечать на вопросы и через полчаса удалился из аудитории, весьма польщенный таким вниманием к своей особе. В 1948 году на режиссерский факультет шли взрослые люди, прошедшие войну, — пол-ГИТИСа тогда были фронтовиками. А тут, между ними, затесался я, восемнадцатилетний.
На обсуждении (это я узнал через несколько лет) все голосовали против моего зачисления: мальчишка, без жизненного опыта. И еще врун: хотел вызвать сочувствие у комиссии, сочинив про день рождения. (Сейчас мне легко представить, что говорилось тогда — ведь вот уже тридцать лет я сам принимаю такие же экзамены в ГИТИСе.)
И вдруг Леонид Васильевич: «А мне понравилась его находчивость и желание попасть в институт — ведь успел мгновенно придумать про день рождения и рассмешить нас!» И еще Леонид Васильевич выдвинул неопровержимый аргумент: поступают много девиц. «Пусть будут на курсе лишние брюки (!)», — так сказал он. Вот так, условно, в качестве «лишних брюк», я был принят на курс, который набирал Леонид Васильевич.
Прошло года полтора, и Леонид Васильевич, смеясь, рассказал нам на курсе, как меня принимали в институт. Я признался, что это в самом деле был день моего рождения и что я сказал комиссии чистую правду. Реакция Леонида Васильевича была неожиданной: он помрачнел, долго пыхтел трубкой, а потом сказал: «Твое счастье, что я не знал этого тогда, а то твоя жизнь пошла бы по другому пути». Мне показалось, что ему было жаль расставаться с образом юного враля, настырно стремящегося к нему учиться...
* * *
Меня не раз спрашивали — был ли у него какой-нибудь четко продуманный метод воспитания будущих режиссеров? Была ли постепенность в освоении этой сложнейшей профессии?
Трудно ответить на это сейчас, по прошествии стольких лет. Но думаю, что четкого педагогического плана — со скрупулезной дозировкой знаний и эмоций, необходимых студентам, — у Баратова не было, и элемент стихийности в его педагогике присутствовал. Хорошо это или плохо — тоже вопрос спорный. Судить надо по результатам.
Он вообще был человеком стихийным, и многое зависело от его настроения: мог быть внимательным, по-родительски нежным и заботливым, а зачастую бывал резок и несправедлив к нам, начинающим. Очевидно, ему не хватало элементарного терпения, столь необходимого для педагога. Он хотел видеть конечный результат, не считаясь с возможностями и малым умением режиссеров, делающих первые шаги. И наша беспомощность раздражала его, мастера.
Но учить он, конечно, мог отлично, и результаты сказывались весьма убедительно. Достаточно сказать, что среди его учеников-актеров — Любовь Орлова и Владимир Канделаки, а учеников-режиссеров — Борис Покровский и Лев Михайлов.
Но в стихийности его педагогики было и чрезвычайно дорогое качество: он обрушивал на нас самые различные проблемы, развивая в нас актеров, художников, драматургов, — словом, лепил наши души так, как представлялось ему необходимым для будущей профессии. Во всем ее многообразии и неоднозначности.
Помню, как на первом курсе Леонид Васильевич, объясняя принципы музыкальной драматургии и ее воплощения в конкретном режиссерско-актерском решении, показал нам сцену письма Татьяны из оперы «Евгений Онегин». Все было очень просто: за роялем сидел концертмейстер, в выемке рояля — Леонид Васильевич, вокруг — мы. И вот Леонид Васильевич спел и сыграл нам всю сцену — от начала до конца — от ухода Няни и до ее возвращения.
Певческого голоса у Леонида Васильевича не было — он и не спел, а скорее негромко прохрипел партию Татьяны. Но в его исполнении была такая огромная вера в происходящее, а вся сцена наполнилась такой надеждой на близкое счастье, что на наших глазах возникла влюбленная девушка, трепещущая, счастливая и одновременно опечаленная своей судьбой.
Леонид Васильевич плакал, когда запечатывал воображаемое письмо, негромко напевая:
Кончаю... Страшно перечесть...
Стыдом и страхом замираю...
Но мне порукой ваша честь,
И смело ей себя вверяю...
Плакал Леонид Васильевич, плакали — каюсь, дело давнишнее — и мы, студенты.
С тех пор я видел много Татьян, и среди них — блестящих исполнительниц, вошедших в историю нашей культуры. Но потрясение, пришедшее в тот вечер в аудитории ГИТИСа, мне не забыть никогда.
Бывали у Леонида Васильевича показы и совсем иного рода — комические. Он был изумительным комедийным актером, знал это и очень этим гордился, в душе, наверное, сожалея, что бросил актерство. (Достаточно посмотреть живущую на экранах до сих пор немую кинокомедию Я. Протазанова «Папиросница от Моссельпрома», где в одной из главных ролей снялся совсем еще молодой Леонид Васильевич, чтобы убедиться, какой это был актер, как он владел сложнейшей техникой комедийной игры, выдерживая соревнование с другим выдающимся комиком — Игорем Ильинским.) Он умел и любил показывать мужские и женские роли и делал это так заразительно, что зачастую занятия становились сольными показами Леонида Васильевича, а мы, его ученики, сидели в зале и аплодировали ему, превращаясь в восторженных зрителей.
Но был один нюанс: после его показа играть самому не хотелось — все казалось бледной и ненужной копией. Моя реакция на это сказалась в том, что с тех пор я не люблю показывать актерам, считая, что им лучше найти свое решение, нежели копировать режиссера. Это, конечно, чисто индивидуальное, и я не хочу давать никаких рецептов. Я говорю лишь о собственных ощущениях тех лет, которые оставили след в моей душе.
Наблюдая Леонида Васильевича на репетициях в Большом театре и видя, на каком «градусе» он репетирует, я убедился, что он владеет магией репетиции: все вокруг него кипело, бурлило, играло. Это был романтический, неординарный, возвышенный Театр, эстафету которого он принял от своих великих учителей... Однажды, пораженный тем, с какой яростью и самоотдачей он (уже пожилой человек!) провел тяжелую многочасовую репетицию массовых сцен, я спросил — в чем же секрет этого гипноза, захватывающего всех? Разговор происходил «у гуся», как говорили тогда в Большом, — в красной гостиной ложи дирекции, где на столе стояла хрустальная чаша с лебединой головой. Леонид Васильевич ответил мне, устало попыхивая трубкой: «Хочешь, чтобы получилось — репетируй каждый раз так, будто это репетиция — последняя в твоей жизни». Я запомнил этот разговор с Учителем и это неожиданное признание.
Он был очень остер на язык и не всегда сдержан. В этом, очевидно, была причина сложных взаимоотношений с окружающими, подчас возникавших у Леонида Васильевича. После премьеры одного балета в Большом, не отличавшегося самостоятельным музыкальным языком, он сказал: «С миру по нотке — такого-то (N.) балет». А по поводу финала одной из постановок «Снегурочки», где на сцену выносили туши каких-то не то козлов, не то волов, Леонид Васильевич саркастически процедил, попыхивая трубкой: «Нашли двух козлов отпущения — Островского и Римского-Корсакова — и отдали на заклание». Многочисленные афоризмы, которые он щедро рассыпал во все стороны, долго потом повторяли мы, его ученики (конечно же, без ссылки на первоисточник), приводя в восторг певцов в периферийных оперных театрах, что создавало нам славу очень остроумных людей.
Мы курили трубки «под Баратова» — для вящей многозначительности. Мы ходили «под Баратова», репетировали «под Баратова». По-моему, даже мыслить старались «под Баратова». А серую в крапинку кепку под Баратова» я ношу и по сей день. И трубки храню.
Его любовь и (что далеко не всегда встречается у оперных режиссеров) умение работать с певцами, скрупулезно и терпеливо выстраивать «жизнь человеческого духа»; тонкое понимание психологии актера, способность подвести его к той высшей точке самовыражения, с которой начинается самостоятельное творчество; стремление через весь спектакль провести сквозное действие; яркая театральность действа; индивидуализация и, вместе с тем, скульптурность массовых сцен — весь этот арсенал режиссерских средств Леонида Васильевича оттуда, из 20-х годов, легендарных годов его ученичества. От его соприкосновения с великими мастерами, его учителями: К. С. Станиславским, Вл. И. Немировичем-Данченко, Е. Б. Вахтанговым. Он, уже признанный мастер, еще при жизни вошедший в энциклопедии, всегда с любовью и благодарностью вспоминал их, многократно возвращаясь к тем или иным подробностям общения с ними.
Леонид Васильевич Баратов очень много сделал для развития оперного театра. Именно он своим творчеством определил направление режиссуры музыкального театра в 40 — 50-е годы. Достаточно вспомнить его работы в Большом: «Иван Сусанин», «Хованщина», «Мазепа», «Чародейка», «Псковитянка», «Князь Игорь» и самое значительное его создание — «Борис Годунов». Несравненный, незабываемый, могучий спектакль, ставший хрестоматийным, откуда черпали и черпают все, обращающиеся к великому произведению Пушкина и Мусоргского.
В Московском музыкальном театре им. Станиславского и Немировича-Данченко — «Семья Тараса» Д. Кабалевского, «Война и мир» С. Прокофьева, «Сицилийская вечерня» Верди и многие другие спектакли; в Кировском (теперь Мариинском) — «В бурю» Т. Хренникова, «Емельян Пугачев» М. Коваля... Первыми его опытами, сделанными под руководством мудрого В. И. Немировича-Данченко, были «Лизистрата», «Карменсита и солдат» — смелый поиск нового прочтения классики.
Мне повезло — я был его учеником в ГИТИСе, затем практикантом в Московском музыкальном театре, а вскоре — и ассистентом в Большом.
Я знал разного Леонида Васильевича. А он действительно бывал разным: с нами, студентами, — близким, понятным, к которому мы все тянулись; и совсем другим — замкнутым — в Большом театре, где в середине 50-х годов ему уже было неуютно, где он был постоянно в напряжении, в готовности «к бою». К тому времени уже не было их «великой тройки» — дирижера Л. Голованова, режиссера Л. Баратова, художника Ф. Федоровского, создавших незабываемые спектакли русской классики. Николай Семенович Голованов скончался, Федор Федорович Федоровский тяжело болел, и Леонид Васильевич, оставшись один, без творческих единомышленников, тяжело переживал свое одиночество в Большом.
И все-таки Большой театр 40 — 50-х годов немыслим без Баратова. Он был плотью от плоти его — этого единственного, великого Театра, любил и гордился им. И, думаю, след, оставленный его творчеством в Большом, не может быть перечеркнут никогда и никем. Если бы не он — не было бы Александра Пирогова и Марка Рейзена — Бориса; Георгия Нэлеппа — Самозванца; Веры Давыдовой и Марии Максаковой — Марины Мнишек; Ивана Козловского — Юродивого; Максима Михайлова — Пимена; совсем юного Александра Огнивцева — Досифея; Алексея Кривчени — Вершинина в «Никите Вершинине» Д. Кабалевского и многих, многих других. То есть они, конечно, были бы, но — не такими, какими они стали во всей исторической полноте характеров, глубоких, народных.
Баратов был большим режиссером. И многое из того, что сам знал и умел, передал нам. Низкий поклон ему, моему Учителю.
На режиссерском факультете царила удивительная атмосфера. Это было своеобразное братство: тон у нас задавали фронтовики, и поэтому отношения были откровенные, лишенные интриг и сплетен.
Однажды я выпросил у выдающегося музыканта, друга нашей семьи, Якова Зака двухтомник Н. Волкова о Мейерхольде. Имя этого режиссера тогда уже вообще не произносилось, а если его и поминали, то не иначе, как с эпитетом «враг народа». Так что эта книга была в полном смысле «подпольной литературой». Я же отважился на шаг, по тем временам отчаянный, — пустил двухтомник «по рукам» режиссерского факультета. Через несколько месяцев он, наконец, вернулся ко мне, изрядно потрепанный. Но этот «заговор», в котором участвовало много студентов, так и не был раскрыт — сказалось факультетское братство. Если бы все обнаружилось — я бы вылетел из ГИТИСа мгновенно, а могло бы быть и хуже: неизвестно, как бы отреагировали «компетентные» органы на распространение «антисоветской» литературы.
Экспериментальный курс
Итак, скрепя сердце, я вернулся в свой родной ГИТИС — преподавать. От курса режиссеров музыкального театра я отказался и предложил набрать курс режиссеров эстрады и массовых представлений. Дело по тем временам было новое, но я решил рискнуть.
«Дело темное, его наверняка к зиме закроют», — обнадежил меня хитрец-ректор. С этим условием я и согласился — на несколько месяцев, до Нового года. Попробуем, а там посмотрим.
И зарплату мне положили — аж 120 рублей. А у меня семья, ребенок. Но советские законы неумолимы: стажа педагогического у меня не было, ученых степеней и званий — ноль.
Ректор оказался прав: дело и в самом деле было темное, неизвестное. Никто не знал, что делать на этом «экспериментальном», как его прозвали в документах, курсе, как воспитывать режиссеров эстрады и массовых представлений. Это был первый опыт в стране. Да и не только в стране — в мире, ибо подобной практики не было нигде. Начинать пришлось с «чистого листа».
Вести студентов по академическому курсу? А при чем тогда эстрада? Забыть про академический курс, заниматься только эстрадной спецификой? При чем тогда гитисовская школа?
Вопросов было много, а ответа ни от кого я не слышал. К кому бы из гитисовских мастеров я не обращался, они не могли дать совета. Единодушны были в одном: а кому в ГИТИСе это вообще надо, при чем тут эстрада... и ГИТИС?
Не могла мне дать ответа и заведующая кафедрой режиссуры М. О. Кнебель (мы были прикреплены к ее кафедре). Патриот ГИТИСа, Мария Осиповна долго и мужественно сопротивлялась проникновению эстрады в театральный институт. Когда же все-таки это произошло — она отошла в сторону и демонстративно наблюдала со стороны — когда эта авантюра кончится? В откровенных беседах со мной институтские мастера уверяли — дело это ненадолго, его быстро «прихлопнут». И, произнося с подтекстом «экспериментальный курс», иронически ухмылялись.
Тогда я бросился за советом к мастерам эстрады — Л. О. Утесову, И. С. Набатову, Л. Б. Мирову. Все они убежденно говорили одно и то же: эстрада — это индивидуальность. Школа губит индивидуальность. Поэтому — никакой школы. Она вредна. Надо сразу, с первых шагов, ставить номера. Ибо основа эстрады — номер, и только через номер можно научить молодежь чему-то.
Что мне было делать? Выхода я не видел. И поверил эстрадным «старикам», предложившим конкретный выход из положения.
Весь первый семестр мы только тем и занимались, что натаскивали наших ребят на номера — речевые, пантомиму, музыкальную эксцентрику. Занимались все увлеченно, со временем никто не считался. И вот так — увлеченно, весело, по-молодому (мне было всего 34 года) — мы шли к полной катастрофе.
Разразилась она в декабре, на экзамене по специальности. Собрался весь цвет режиссерского факультета — Ю. А. Завадский, М. О. Кнебель, И. С. Анисимова-Вульф, И. М. Рапопорт...
Всех, естественно, интересовало — что там натворил этот «экспериментальный курс»?
...В темноте маленького зала сидели профессора, тихо перешептывались в ожидании... И вдруг они вздрогнули — в зал резко ворвалась веселая фонограмма, ослепил яркий свет, направленный со сцены прямо на них... Так началось дело, о котором и сегодня я не могу вспоминать без содрогания.
Студенты первого набора были людьми тертыми — артисты эстрады, цирковые клоуны, музыкальные эксцентрики и даже... водитель автофургона — девушка из Риги. Пока репетировали без зрителей, то казалось, что норм «приличия» мы не переходили. Хотя уже через месяц после начала занятий в душу закралось сомнение в верности пути, намеченном эстрадными «стариками». Чем больше мы репетировали номера, тем хуже играли студенты, а ничем, кроме номеров, мы не занимались. Но останавливаться было поздно, и я скрепя сердце продолжал следовать совету своих наставников.
На показе наших клоунов, эксцентриков и девушку-водителя... «понесло». От волнения, от неумения и от желания «показать им всем» они так «жали», так надрывно пели, что полуторачасовую пытку я запомнил надолго.
Потом состоялось обсуждение. Естественно, вся режиссерская кафедра «крыла» нас — долго, профессионально и... со вкусом. Тем более что были правы: показ и в самом деле оказался плохим. Даже не плохим — отвратительным: громким, беспомощным, наглым и безвкусным.
Ректор с показа ушел. Он прислал Сергея Ивановича, своего «оруженосца», бывшего парторга ГИТИСа. В разгар обсуждения Сергеи Иванович стал тихо пробираться к выходу — отправился докладывать ректору о нашем полном конфузе. Я молчал, понимая, что мы в самом деле провалились. Ясно, что говорить не о чем и надо закрывать «экспериментальный курс».
Но свет не без добрых людей.
Поток критики остановила И. С. Анисимова-Вульф. Народная артистка, профессор, человек талантливый и интеллигентный, правая рука Ю. А. Завадского в театре и в ГИТИСе, она неожиданно сказала:
— А не очень ли сурово мы судим? Дело новое, в нем много неясного, но надо попробовать заново. И потом — мне понравилось, что в ГИТИС наконец-то ворвалась громкая фонограмма, яркий свет, клоунада.
Следом за Ириной Сергеевной слово взял Ю. А. Завадский — самый именитый из всех присутствующих. Слово его, естественно, было решающим.
Он сказал, что показ ему не понравился — полное отсутствие школы, педагогическое неумение. «Но... — Юрий Александрович выдержал большую паузу и вдруг произнес, глядя поверх голов сидящих вокруг, устремив свой взор принца Калафа куда-то вдаль: — В этом что-то есть. Дело надо продолжить, а весной решать».
Когда все разошлись, Юрий Александрович Завадский долго беседовал со мной, убеждая, что без школы нельзя, что она —основа всего, уговаривал не огорчаться из-за провала, а сделать выводы.
Юрий Александрович вообще относился ко мне хорошо. Когда-то, когда мне было 14 лет, я пришел к нему в сад «Эрмитаж где тогда играл театр имени Моссовета, наниматься на работу (!). Об этом в 1959 году рассказал журнал «Театральная жизнь» в статье «Человек неиссякаемой фантазии» (так цветисто называли меня, когда я был молодым и еще подавал надежды): «Однажды, лет четырнадцать или пятнадцать назад, в кабинет художественного руководителя театра имени Моссовета робко вошел мальчик. Упрямо глядя в глаза известного режиссера, он проговорил срывающимся от волнения голосом:
— Хочу стать актером. Хочу поступить в ваш театр. Пять лет назад я стал выступать в «Пиковой даме». Теперь у меня пропал голос. Я не представляю себе жизнь без театра...
— Сколько вам лет? — окинул его взглядом Завадский.
— Четырнадцать! — гордо ответил мальчик. Ему казалось, что он уже совсем взрослый.
— Прочтите что-нибудь.
Мальчик не мог вспомнить ничего подходящего. Крепко, до боли стиснув пальцы, он начал читать... текст арии Риголетто.
Завадский хохотал искренне, безудержно, до слез. Но, видно, было в глазах юного посетителя нечто такое, что заставляло относиться к нему серьезно.
Иоаким Шароев — так звали мальчика — был принят в театр «сотрудником». Он выносил на сцену подносы, бил в колокол, производил шум ветра и делал множество других необходимых дел.
Вскоре его определили в Центральную музыкальную школу при Московской консерватории. Мечты о театре пришлось на время оставить».
Весной 1959 года, когда вышел этот номер «Театральной жизни», я был художественным руководителем Кремлевского театра. В эти дни на его сцене шли спектакли театра имени Моссовета, и мы часто виделись с Юрием Александровичем. Однажды после спектакля я показал ему журнал и признался, что «Человек неиссякаемой фантазии» — это тот самый мальчишка, который с такой страстью прокричал когда-то у него в кабинете арию Риголетто.
Завадский, оказалось, статью читал, но никак не связывал горластого мальчишку со мной. Он очень удивился, стал смеяться. Стоявшая рядом В. П. Марецкая тоже веселилась: оказывается, они читали статью вместе, но не знали, куда делся четырнадцатилетний крикун.
— Так это в самом деле вы кричали тогда у меня в кабинете: «Куртизаны! Исчадье порока»?
Так состоялось наше вторичное знакомство. (Потом мы в течение двадцати лет встречались с Юрием Александровичем в институте и в доме нашей общей знакомой — Евгении Борисовны Гардт.)
Тогда, после моего первого педагогического семестра, Ю. А. Завадский спас наш курс. Беседа с ним открыла мне глаза на многое: я понял, что пришло время круто менять все.
Свое новое дело я, помимо воли, уже успел полюбить. Педагогика коварна: незаметно, ненавязчиво проникает она в твою душу, пускает там корни. И вот — сам ты еще не понял, но уже у нее в плену. Она уже владеет тобой. Так, наверное, случалось со многими. Так случилось и со мной.
После громкого провала нам дали испытательный срок — один семестр. Всего за четыре месяца надо было придумать методику преподавания и на деле доказать ее жизненность.
Постепенно стало кое-что проясняться: сначала возникли неясные контуры, потом блеснул слабый луч надежды, что дело может сложиться и его удастся спасти.
Но поиск шел очень трудно. То, что потом стало основой методики нашей кафедры, ее практической деятельности, вошло со временем в учебники, «нащупывалось» именно в тот трудный семестр. Мне и самому стало ясно, что школа необходима в любом виде искусства — в театре, кино, на эстраде, в цирке. Необходима как фундамент, на котором возводится здание — профессия. А природный талант — это улыбка Бога. И если в душе зреет талант — школа поможет ему раскрыться, расцвести, укрепиться. Нужны азы, и без них никуда не денешься.
Элементарная, казалось бы, истина. Но к ней я пришел не сразу. Тем более что мастера эстрады в один голос уверяли меня в противоположном. Но они искренне утверждали это на основе собственного опыта. В самом деле — ни Утесов, ни Миров, ни Набатов ни в каких институтах своему мастерству не обучались. Но эти замечательные мастера были исключением, а на исключениях методику не построишь.
Как бы то ни было, требовалось найти точки соприкосновения гитисовской школы и эстрадной специфики. «Золотая середина» была в органическом единении преподавания академического курса режиссуры (основанного на творческом развитии системы К. С. Станиславского и театрального учения Вл. И. Немировича-Данченко) с изучением различных жанров эстрады. Это и стало главным принципом воспитания режиссеров и актеров эстрады в театральном вузе.
Дальнейшее развитие событий показало — нащупан, может быть, единственно возможный путь. По крайней мере, вот уже три десятилетия по этой методологии идет работа на кафедре эстрадного искусства РАТИ (ГИТИСа). И иного пути пока что никто не предложил.
Дальше дело пошло легче: путь был нащупан.
Наш «эксперимент» привлек внимание «стариков». Поначалу скептически отнесясь к созданию в ГИТИСе курса режиссеров эстрады, они постепенно стали проявлять интерес: приходили к нам на просмотры, оставались на обсуждение, беседовали со студентами. Так удалось втянуть их в дело, и вскоре Л. Б. Миров, М. В. Новицкий, И. С. Набатов, Л. С. Маслюков, С. А. Каштелян стали нашими педагогами. Об Л. О. Утесове я писал выше.
Первой ласточкой нашего успеха был спектакль, построенный на миниатюрах М. Зощенко, М. Кольцова, С. Ликока и Ф. Кривина.
Наиболее интересной получилась инсценировка кривинских «Божественных историй». Материал оказался чрезвычайно благодатным, ибо многое у автора — в подтексте, иносказании, в своеобразии притч, в манере которых написаны «Божественные истории».
Здесь мы нащупали ту грань между театром и эстрадой, которая определяет сущность «театра миниатюр». Новеллы, инсценированные самими студентами, связывались единым авторским «ходом» и особым настроением, характерным для такого изящного, интеллигентного, остроумно-печального лирика-философа, как Феликс Кривин. В конце 60-х годов его имя стояло в первом ряду сатириков.
Еще не «царствовал», как сегодня, М. Жванецкий, еще искали себя А. Хайт и С. Альтов, а М. Задорнов еще и не начинал свои первые опыты в клубе Московского авиационного института. «Новая волна» сатиры только набирала силу.
Главным образом спектакля был Христос. Его играл Боря Савельев — человек с удивительным даром трагикомического, умеющий точно передать тонкость юмора, замешанного на философском отношении к жизни. В сцене Тайной вечери, когда прекрасный белокурый юноша с голубыми очами клялся в любви и преданности Учителю, а тот понимал, что Иуда вскоре проявит себя, Христос был мудр и печален. Ясным взором провидца проникая в душу каждого ученика и видя насквозь «преданную» душу Иуды, он предрекал в печальном монологе свою судьбу и судьбу своих учеников. А когда он совершал свои чудеса — шел по морю как посуху, исцелял больных — некое потустороннее изумление посещало и учеников, и даже самого Учителя. Борис Савельев удивлял каскадом неожиданных оценок, интонаций, подтекстов. Зрители то плакали, то хохот раздавался в зале. Это был очень современный, кривинский Христос, внутренней силой которого был неустанный поиск правды. И библейские темы в кривинской транскрипции читались в соответствии с сегодняшним днем.
Я пытался приучить студентов к тому, что режиссер эстрады обязан профессионально работать с авторским материалом, уметь не только вскрывать смысл его и подтекст, но и научиться драматургически выстраивать его по принципу монтажа, где в основе — сочетание, сцепка противоположного по характеру материала. В результате этого текст приобретал зачастую неожиданный смысловой поворот. Тогда я еще не пришел к формуле «режиссер-драматург», но в ходе учебного процесса уже была найдена эта одна из важнейших функций режиссера эстрады и массовых представлений.
Студенты сами ставили свои инсценировки кривинских миниатюр, а автор имел возможность, проверив материал в живом исполнении, корректировать его — менять, переделывать, улучшать. Наконец, все студенты курса участвовали в спектакле как актеры.
«Божественные истории» мы играли много раз, на различных площадках, в том числе и в Доме журналистов. Домжуре, как называют его для краткости. Это выступление чуть не сорвала милиция. Домжур — за углом от ГИТИСа. Машину для перевозки костюмов и реквизита не дали — «сами донесете, тут рядом». Студенты стали на себе перетаскивать вещи. А так как закулисное пространство в зале Домжура маленькое, то они решили переодеться в театральные костюмы прямо в институте.
И вот в нашем Собиновском переулке появилось странное шествие: вослед Христу, одетому в рубище, шли его ученики в таких же хламидах, с двухметровым крестом. Когда процессия свернула на Арбатскую площадь, раздались тревожные свистки. К этому времени «апостолов» сопровождала целая толпа любопытных. Милиция переполошилась — правительственная трасса, постоянно снуют черные машины с охраной, а тут — шествие с крестом! (Это было в 1968 году, и нравы тогда значительно отличались от сегодняшних.)
Всех «апостолов» задержали. Пришлось срочно вмешиваться, объяснять, что это студенты театрального института, спешащие на спектакль, а не религиозная секта. В конце концов их отпустили, кроме одного — того, кто нес крест. Милиция приняла его за японца (рядом с ГИТИСом было японское посольство), но это был наш студент, казах Серик. Когда мне удалось доказать это, нас отпустили, и «японец» бодрым шагом направился в Домжур, неся свой крест (в самом прямом смысле).
...А потом был дипломный спектакль 4-го курса. Будущие режиссеры выступали здесь как авторы сценариев, как режиссеры и как исполнители. Литературной основой спектакля «В сердце было в моем» стали произведения Маяковского: отрывки из его поэм, стихотворений. Отправной точкой была микропьеса «Радио-Октябрь». Выпускникам было предложено написать на тему микропьесы свой сценарий с использованием различных эстрадных жанров: художественного чтения, пантомимы, песен, пародий, скетчей, чтобы они существовали не в отрыве от действия, а «работали» на основную идею. Каждому студенту поручалась и постановка того эпизода, автором которого он являлся.
Вскоре мы прочли в газете: «...Интересна работа 4-го курса режиссеров эстрады. Это первый опыт в нашей стране. Эксперимент, и весьма удачный.
Первый опыт его уже замечен и даже подхвачен Ленинградским институтом театра, музыки и кинематографии, который в нынешнем году сделал набор на аналогичный курс у себя.
Надо полагать, что в скором времени эстрада повсюду обретет высокий художественный уровень и малейшее проникновение безвкусицы станет практически невозможным».
Тогда, в 1968 году, можно было с наивной верой утверждать в прессе, что с появлением двенадцати молодых режиссеров в корне изменится лик всей эстрады... Реальностью же было то, что в театральном вузе появилась кафедра эстрадного искусства и при ней — заочное отделение. В том же году на Высших режиссерских курсах открылся курс режиссеров эстрады.
И заочное отделение, и ВРК открыли дорогу мастерам эстрады.
Наше дело обрело новое дыхание.
Ученики — коллеги
Многих удивляло — почему звезды эстрады пошли учиться в ГИТИС? Чего им не хватает? Казалось бы, все есть — известность, деньги. Может быть, из-за «корочки» (в просторечии так называют диплом)? Но более чем у половины из них уже было высшее образование. «Тогда что же им надо?» — недоумевали и в ГИТИСе, и на эстраде.
Многие просто не могли понять, что звезды не ошибаются в определении своей судьбы, что они давно поняли — несмотря на успех необходимо еще многому учиться. И к нам шли. Шли те, кого манила режиссура, всевластная тайна, заключенная в этой — даже не профессии, нет, значительно больше — в этом призвании. И очень точно они предвидели свое будущее — многие из звезд, окончив ГИТИС, пришли к режиссуре.
Режиссура не отвлекает звезд от исполнительской деятельности. Аналогии ведь есть и в театре — Олег Ефремов, Олег Табаков, и в кино — Никита Михалков, Василий Шукшин. Уйдя в режиссуру, они не изменили и своему актерскому призванию.
Очевидно, одно дополняет другое и с годами, по словам Александра Довженко, становится единым комплексом выражения себя.
Есть еще одна тайна эстрады — так называемая «саморежиссура». Суть ее в том, что есть жанры настолько специфические и «закрытые», что ставить их человеку не только со стороны, но даже из «соседнего» жанра нельзя.
На профессиональных тайнах держатся оригинальные жанры, где трюк не просто используется, а изобретается. Изобретение трюка — гэга — является режиссурой жанра, более того, это многое определяет в нем. Создание новых трюков, держится в строжайшей тайне, ибо новый трюк — это сенсация. Если его растиражировать — пропадет его уникальность и ценность.
Может быть, поэтому такой строжайшей профессиональной тайной окутано творчество Арутюна Акопяна. Он тоже учился у нас и был хорошим студентом. Как и его сын Амаяк, пришедший учиться к нам вслед за отцом.
Арутюн Акопян после окончания Высших режиссерских курсов стал создавать спектакли, где сложный арсенал номеров оригинального жанра (в данном случае — манипуляции) был организован в стройную драматургическую систему. Арутюн Акопян удачно соединил в себе автора, режиссера в исполнителя.
* * *
А талантливейший Андрей Николаев, один из лучших моих учеников? Вот уж в самом деле режиссер-драматург милостью Божьей.
Кто автор многих клоунских реприз: Умирающий лебедь», «Крокодил», «Воздушные шарики» и других, удостоенный высшей всемирной цирковой награды — премии Грока? Николаев.
Кто режиссер этих замечательных миниатюр, получивших международное признание? Николаев.
И исполнитель, естественно, Николаев.
Этому соединению в одной личности различных сторон творческой деятельности много лет назад я нашел определение «режиссер-драматург», перефразируя мейерхольдовскую формулу «драматург-режиссер».
Режиссер-драматург, режиссер-исполнитель — это «тройственный союз», соединение различных дарований в одном человеке, в одной уникальной личности.
Ярким проявлением этого стал замечательный цирковой спектакль «Я работаю клоуном». В нем Андрей Николаев выступил как автор сценария, режиссер-постановщик и исполнитель главной роли — Клоуна. И выполнял не только обычные на манеже клоунские «задачи» — репризы, паузы между номерами, клоунские трюки, а создавал глубоко жизненный образ, усиливая его публицистической направленностью, порой политсатирой. Самые различные и разнородные жанры в этом спектакле были объединены режиссером-драматургом в стройную конструкцию, каждый жанр «работал» на идею всего спектакля. И от этого номера традиционных цирковых жанров приобрела новое смысловое качество.
Здесь прослеживалась связь с дипломным спектаклем «Клоп», построенным по этому же принципу. Тогдашний студент 4-го курса Андрей Николаев играл роль Присыпкина. Ему была поручена и режиссура эпизодов, в которых участвовал Присыпкин. Он придумал множество самых неожиданных трюков: например, в зоопарке, находясь в клетке, Присыпкин оказывался лежащим на… «свободной» проволоке. Раскачиваясь на ней, он разговаривал, играл на гитаре, падал и вновь возвращался на проволоку. Выпив, Присыпкин закусывал... прутьями из решетки.
А в сцене свадьбы невеста просто «свалилась с неба»: прилетела на канате, протянутом над зрительным залом.
Много всяких неожиданностей было и в сцене погони за Присыпкиным: и каскады, и прыжки с падающей лестницы, и фляки, и многое другое.
Но самым впечатляющим получился аттракцион в сцене свадьбы, где будущие режиссеры эстрады и цирка «развернулись вовсю». Клоунада, жонглирование, акробатика, музыкальная эксцентрика, танец, манипуляция — здесь были использованы все эти жанры. Введенные в ткань действия, они придали эпизоду стремительность и неожиданность режиссерского решения.
* * *
За четыре года до дипломного «Клопа» Андрей Николаев пришел ко мне в институт. Вид у него был странный: на нем был надет гипс — на все тело до подбородка. Тогда он только что вернулся из Австралии, где был на гастролях. Там и случилось несчастье — тяжелый перелом позвоночника. Его «одели» в гипс, и он продолжал некоторое время выступать на манеже, ведя программу и исполняя по ходу спектакля трюки.
Вот в таком «упакованном» виде Андрей явился на сессию. Она чуть не закончилась драматически: все, что я требовал от студентов, Андрей категорически не принимал, протестовал, шумел, что его этому не учили. Я, сколько мог, терпеливо объяснял, что он потому и пришел в ГИТИС, что его не всему обучили в цирковом училище. Но он, к тому времени уже сложившийся артист, спорил до изнеможения.
Закончилось все, естественно, конфликтом, и Андрей заявил, что ему нечего делать в ГИТИСе. На том мы и расстались, как нам казалось, навсегда.
Но на следующий семестр Андрей неожиданно появился, сказав, что хочет еще раз попробовать, прежде чем уйти из института. Он остался еще на семестр, потом — еще на один и в конце концов — навсегда: после окончания института стал преподавателем на нашей кафедре. Ныне он сам профессор, у него много учеников, в том числе и Алла Пугачева.
Теперь уже он «воюет» со своими учениками — за них же самих. Как я когда-то с ним...
Да, так складываются отношения между людьми — мы с Андреем начали с большой ссоры, а закончили дружбой, и эта дружба — на всю жизнь.
...Студенты сами сняли небольшой киноэпизод, в котором Присыпкина прячут в больнице (лечить от алкоголя), органично вошедший в композицию. Но Присыпкин сбегает из больницы. И вот по улицам Москвы за ним идет погоня: он удирал на мини-мотоцикле, на котором А. Николаев выезжал в цирке на манеж, а за ним гнался на машинах весь курс. Курс был по тем временам особый, у каждого — своя машина. Студенты, вооружившись жезлами «гаишников» (как достали и где — сохранялось в тайне), перекрыли Ленинский проспект у 1-й Градской больницы и снимали там основные эпизоды. Когда ГАИ спохватилась, их и след простыл. Они перекрыли движение и на площади Маяковского, у старого Театра кукол под руководством С. В. Образцова. (К тому времени Образцов уже год как переехал в новое здание, а старое отдали ГИТИСу. Мы «захватили» театр, и он около двух лет принадлежал нашей кафедре: там шли все занятия, показы, спектакли. Там же шел и «Клоп».) В фильме, который сняли ребята, Присыпкин, удирая от преследования, появлялся на площади Маяковского. Тут его ловили, брали на руки, вносили в театр, и... группа с Присыпкиным, сойдя с экрана, появлялась в зрительном зале.
Весь фильм ребята сняли своей аппаратурой. Сами и улицы в центре перекрывали, сами монтировали пленку. Накануне я им только сказал: «Эх, если б можно было снять погоню за Присыпкиным по Москве!» Они тогда ничего мне не ответили, но через два дня фильм был готов. Вот такие были у меня на курсе отчаянные и веселые студенты!
Прошло более двадцати лет, но я до сих пор вспоминаю их с любовью. Прекрасный был курс: В. Редин, клоун-эксцентрик из Цирка на льду, акробат В. Замоткин, клоун В. Мусин, К. Кантемирова из славной династии осетинских наездников, дрессировщик В. Филатов-младший, ленинградская артистка цирка Л. Смирнова, руководитель выдающегося циркового аттракциона «Акробаты с медведями» В. Беляков. Все известные цирковые артисты, с которыми работалось легко и радостно.
И, конечно, душа курса, первый выдумщик и создатель головокружительных неожиданных режиссерских решений — Андрей Николаев.
Сколько уж лет прошло — а я все вспоминаю моих милых и талантливых ребят. И мне кажется, что то было самое прекрасное время в моей педагогической практике. Может быть, еще и потому, что я и сам был на 20 с лишним лет моложе.
Мой курс режиссеров цирка был настолько интересен, что я решил снять фильм о нем. В те годы я был художественным руководителем творческого объединения музыкальных фильмов в «Экране» Центрального телевидения. Тогдашний художественный руководитель «Экрана», талантливейший Марлен Хуциев поддержал идею фильма о студентах ГИТИСа — мастерах цирка.
Это был мой не первый фильм о цирке: незадолго до этого мы сняли ленту «Представление начинается», где участвовали Олег Попов, Валентин Филатов со своим «Медвежьим цирком». Фильм хорошо приняли и тут же предложили за рубеж. Покупали его охотно.
Новый фильм мне хотелось сделать в ином плане. Снять несколько новелл — портретов моих студентов. Исходной точкой должен был стать дипломный спектакль «Клоп». И, отталкиваясь от спектакля, выделив одного из исполнителей, заострить на нем внимание и с этого начать очередную новеллу-портрет. А ведущим фильма должен был стать Андрей Николаев, то выходя из роли Присыпкина, то вновь возвращаясь в этот образ.
Мы начали с того, что на репетициях и двух дипломных показах сняли весь спектакль, затем досняли крупные планы исполнителей. Когда смонтировали всего «Клопа», он получился таким смешным, что мог стать самостоятельным телефильмом. Я решил показать его телевизионному руководству.
На просмотре начальство хохотало, потом состоялось обсуждение. Те же люди, которые полтора часа веселились, теперь крыли меня за «оглупление советских людей» и «сознательное принижение рабочего класса». И главное — за последний акт, в зоопарке. Как известно, действие в зоопарке происходит в светлом будущем», в коммунизме. «Какой же это коммунизм? Это же издевательство!» — надрывалось отдохнувшее от хохота начальство.
Скорее всего эти люди не знали, что действие, происходящее в «коммунистическом раю», самим Маяковским показано неоднозначно. Об этом мне когда-то говорила Людмила Владимировна Маяковская, сестра поэта. Она обратила мое внимание на истошный вопль Присыпкина: «Заморозьте меня обратно!» В том грядущем машинизированном, автоматизированном веке, о котором писал поэт, была опасность потерять личность, заменив ее полуроботом, лишенным души и человечности. Именно об этом — пусть в веселой, комедийной форме — предупреждал Маяковский. Поэтому сцены в «коммунизме» имели определенный подтекст и в самом спектакле. Но принимающие товарищи подтекстов, судя по всему, не «секли»: они понимали все буквально, в лоб.
Вдоволь нахохотавшись, телевизионное начальство запретило эксцентрический фильм-спектакль «Клоп». Так уничтожили еще одно интересное дело.
«Хозяин вечера» (А. Г. Алексеев), «хозяин концерта» (И. С. Набатов), «объединитель» зрительного зала со сценой (Н. П. Смирнов-Сокольский) — так определяли профессию конферансье эти мастера эстрады.
В самом деле, конферансье, кроме актерских обязанностей, должен уметь определять жанровое чередование номеров, соотношение частей в достижении «художественной целостности спектакля». Отсюда одно из профессиональных качеств конферансье — умение найти верный темпо-ритм концерта. В процессе эстрадного представления конферансье приобретает, в известном смысле, качества и функции режиссера, определяющего композиционный строй действия.
Вы не обратили внимания, что целый ряд конферансье пришел в режиссуру?
Близость этих двух профессий на эстраде очевидна. И глубоко закономерно, что известный петербургский конферансье Коля Петер стал выдающимся советским режиссером Н. В. Петровым, а конферансье А. Г. Алексеев, один из основателей жанра, с годами также пришел в режиссуру и возглавлял крупнейшие музыкальные театры страны.
Набравшись исполнительского опыта, стал режиссировать и Лев Шимелов, поставив отличные номера.
И талантливые мастера — Борис Брунов, Олег Милявский, Сергей Дитятев и Олег Марусев — пришли в эту сложную профессию, окончив Высшие режиссерские курсы и заочное отделение факультета эстрадного искусства. Брунов стал художественным руководителем Московского театра эстрады. Дитятев много ставит на эстраде. Марусев удачно пробует себя в телевизионных шоу.
Когда Брунов еще только мечтал о режиссуре, нам довелось с ним много работать I Москве, в национальных республиках и за рубежом. Как конферансье он может Делать все: превосходно разговаривает с залом, мгновенно находит контакт со зрителем; умеет убежденно говорить на самые злободневные темы нашей жизни; может рассмешить зрителя веселой остротой, расположить их к себе доброй шуткой; поет куплеты, играет на различных инструментах, жонглирует, исполняет акробатические трюки. Может быть даже художником-моменталистом.
В этом многообразном проявлении его способностей сказывается цирковое детство: родители Бориса были артистами цирка и ему было 5 лет, когда он впервые вышел на арену цирка.
Борис Брунов обладает даром импровизационности, хорошо выученный текст подает так, словно это живая иллюстрация к классической формуле — «сегодня, здесь, сейчас, как в первый раз». Вспоминаю далекий 1964 год. Алма-Ата, последний день декады России в Казахстане. Б. Брунов и эстрадный писатель М. Грин во время декады ездили по республике, собирая материал для монолога, который Брунов должен был исполнять в заключительном концерте. Они вернулись в Алма-Ату накануне концерта, привезя большой и лихо написанный фельетон о том, что они встретили в пути. Борис читал мне фельетон по бумажке, и я встревожился — как же завтра?
И вот — концерт. Я стою за кулисами, наблюдая, как Брунов уверенно, легко и весело исполняет без запинки и единой оговорки десятиминутный монолог, и поражаюсь — когда выучил? Рядом со мной стоит Н. Д. Мордвинов — великий мастер. Он готовится к выходу — должен был читать «Клятву Демона». Вижу — волнуется. Его внимание привлекает конферансье. Мордвинов смотрит на него пристально и вдруг говорит, повернувшись ко мне:
— Откуда такая легкость? Неужели он импровизирует?
— Да нет, Николай Дмитриевич, — отвечаю. — Это написанный текст.
— А когда же он его выучить успел? Я бы ни за что не смог так.
Это говорил великий актер, превосходно знавший не только театр, но и эстраду, на которой выступал много раз. Мастерству Брунова поразился даже он.
...По окончании ГИТИСа оба конферансье — Борис Брунов и Сергей Дитятев — стали не только режиссерами, но и обратились к педагогике: они остались преподавать на нашей кафедре и успешно работают по сей день. Теперь они уже доценты, у них много своих учеников. Брунов — художественный руководитель курса режиссеров эстрады. Дитятев, создавший как режиссер и актер целый ряд тонких, интеллигентных работ, сосредоточил свое педагогическое внимание на речевых жанрах.
Студия в Гнездниковском
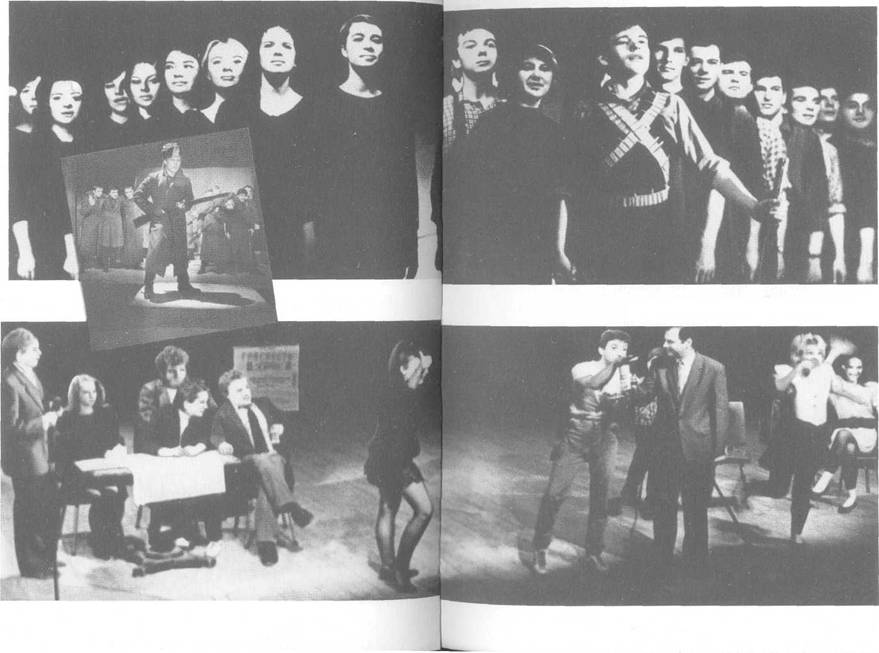
На сцене театра «ГИТИС. Спектакли разных лет

Курсовые и дипломные спектакли. Мои студенты играли В. Маяковского, М. Зощенко, Ф. Кривина
С начала 70-х годов многие мой курсы играли в Учебном театре ГИТИСа (ныне — театр «Гитис»), который находится в Гнездниковском переулке (рядом с улицей Горького — теперь снова Тверской). И с первых лет существования кафедры нашим любимым автором стал М. Зощенко.
По существу, Зощенко — идеальный эстрадный сатирик. Ясная, точная мысль, лаконичность, предельная концентрированность действия, образный язык, иносказательность, остроумие нелепости, доведенное до абсурда, глубокий авторский подтекст, обращенный к людям, к их совести: «Люди, будьте людьми!» — все это делает Зощенко чрезвычайно привлекательным для исполнения на эстраде.
Ушел быт 20-х годов, исчезли поколения, о которых он писал. Но проблемы остались — общественные, социальные. И пожалуй, самая нерешаемая — проблема культуры народа, вернее, отсутствие оной. Зощенко видел сердцевину социальных проблем и потому будет всегда современен. Быт ушел — проблемы остаются. Я пессимист — мне кажется, что они останутся навсегда.
Играли мы в Учебном театре и блоковский спектакль. Это был спектакль музыкальный, довольно-таки сложный по форме, и о нем следует рассказать.
На блоковскую «Незнакомку» и «Балаганчик» я был настроен давно: еще когда прочитал об этих спектаклях у Мейерхольда. С тех пор и носился со своей идеей, долгое время не находившей применения. И наконец свершилось: позвонил Никита Богословский и дал мне прослушать музыку к двум драмам Блока, которую он незадолго до этотого написал. Идея мне понравилась, и работа началась.
Мы в Учебном театре первыми поставили две драмы Блока с музыкой Богословского (Потом, через два года, А. Эфрос сделал радиоспектакль на Всесоюзном радио, а еще через несколько лет С. Юткевич поставил их в Московском камерном музыкальном театре.) На скромной сцене Учебного театра ГИТИСа мы отпраздновали этим спектаклем своеобразный юбилей: Мейерхольд поставил блоковский спектакль в 1906 году, и в ноябре 1976-го мы отмечали семидесятилетие мейерхольдовской постановки.
Интерес у зрителей к лирическим музыкальным драмам был большой. Мы играли при аншлагах, у театра — толпа. Среди зрителей — и вся гитисовская профессура. На одном из представлений присутствовал П. А. Марков, патриарх советского театроведения. Мы долго беседовали с ним после спектакля. Он был очень доволен, хвалил «Незнакомку». А по поводу «Балаганчика» сказал: «Очень, очень оригинально. Но, скажу вам откровенно: как я его раньше не понимал, так и сегодня не понял. Пожалуй, даже после сегодняшнего спектакля «Балаганчик» стал для меня еще непонятнее».
И внимательно и по-доброму посмотрел на меня — не обижусь ли? — своими странными очами, которые обессмертил Булгаков. (Помните Мишу Панина из «Театрального романа»: «Какие траурные глаза у него... Он убил некогда друга на дуэли в Пятигорске, — думал я, — и теперь этот друг приходит к нему по ночам, кивает при луне у окна головою...». Это — о П. А. Маркове.) Он смотрел на меня своими траурными глазами, а я попросил его прийти еще раз, чтобы вместе по ходу спектакля обменяться мнениями. Глаза его потеплели, и он согласился. Но больше не пришел...
Блоковский спектакль мы играли в течение двух лет. А потом пришло время, и на маленькой сцене Учебного театра наконец-то родилась моя студия-мастерская.
В январе 1989 года с третьим курсом режиссеров и актеров эстрады мы готовили спектакль. В нем были представлены различные жанры: миниатюры, пантомима, конферанс, инсценировки... И конечно, было много музыкальных работ: фрагменты из «Веселой войны», «Соломенной шляпки» органически вошли в этот спектакль-концерт.
За день до показа, на генеральной репетиции, в зале появилась группа одетых «не по-нашему» вежливых людей во главе с ректором института С. А. Исаевым. Оказалось — американские театральные режиссеры и педагоги. В разговоре выяснилось, что они уже целую неделю в Москве: смотрят студии, театры. Очевидно, устав от «серьеза», которым их «перекормили», они попросили посмотреть что-нибудь веселое. Тут и вспомнили про нас.
Американцы сидели в пустом зале Учебного театра и от души хохотали. Потом у нас была обстоятельная беседа. Их интересовало все: как готовят режиссеров, как — актеров, какие обязательные предметы, какова специализация... Прощаясь, они пригласили нас приехать в октябре в Бостон, на Международный фестиваль сатиры и юмора. И попросили разнообразить жанры — ввести куплеты, частушки, пантомиму...
На следующий день на показе зал хохотал часа два с половиной. Потом, прямо в зрительном зале, состоялось заседание объединенного межфакультетского совета. И было решено создать на базе моего курса студию-мастерскую. Это предложил декан балетмейстерского факультета профессор Е. П. Валукин.
На нашем спектакле присутствовали представители Союзконцерта: его директор Н. И. Бутов и директор объединения «Менеджер» С. Л. Абрамян. Мне хочется помянуть добрым словом этих талантливых и деятельных людей, ищущих все новое и молодое в концертной жизни. Буквально на следующий день Бутов и Абрамян прислали ректору ГИТИСа письмо о создании, совместно с ГИТИСом, театра-студии Союзконцерта. (К этому присоединился и Международный союз деятелей эстрадного искусства.)
А через два месяца в Московском Дворце молодежи (около метро «Фрунзенская») состоялся наш первый студийный спектакль. В нем участвовали наши выпускники — Валентина Игнатьева, Андрей Васильев, а также педагоги курса — Владимир Кирсанов и Анатолий Елизаров, своим мастерством дополняя студенческие работы. С тех пор это стало традицией — участие мастеров эстрады в спектаклях студии. Постоянными участниками стали лауреаты Всесоюзного конкурса артистов эстрады, Татьяна Новицкая и Игорь Шароев, мой сын.
Параллельно готовился и другой вариант спектакля: в студии его прозвали «американским». В его программе появилось много новых жанров; он стал разнообразнее, живее и более политически направленным. Массовая пантомима «Этапы большого пути», или «Трое в одной лодке», которую придумал Андрей Николаев, в острой, гротесковой форме, через образы «вождей», показывала разные периоды нашего государства.
В спектакль были включены озорные частушки на политические темы, студенческие песни, где с юмором отражались достаточно острые проблемы как нашей общественной жизни, так и советско-американских отношений. Начинали спектакль и заканчивали его два американских танца — стремительные, основанные на музыке «кантри».
А перед финалом разыгрывалась микропьеса «Москва — Бостон» — один из наиболее смешных эпизодов нового варианта спектакля. Текст написали наши студенты А. Шидловский и А. Язловский. Бывшие КВНовцы, они придумали остроумную «телепикировку» двух групп — нашей и американской. Разговор касался самых острых современных проблем, и доставалось крепко и нам, и американцам. Многое, как всегда, пришло во время репетиций, и окончательный вариант текста сложился уже перед самым спектаклем. Так, на ходу, «придумалась» серия комических реклам, перебивающая, по американской традиции, телепередачи: там происходили самые разнообразные вещи — от драки гангстеров, конкурса «Мисс Америка» до развода в семье. И все они заканчивались одним и тем же призывом: «Пейте пепси!»
Когда новый вариант спектакля был сделан (он и назывался теперь по-иному — «Кабаре «Гласность»), американцы вновь пришли смотреть его. В Москве в это время проходил Международный фестиваль молодежных театров, и коллектив из Бостона принимал в нем участие. Руководитель этого театра был одновременно и руководителем Бостонского международного фестиваля сатиры и юмора.
После просмотра мы окончательно договорились о поездке нашей студии в Америку. Я пригласил в спектакль наших студентов-заочников Г. Делиева и Б. Барского из театра пантомимы «Маски». Они вписались в программу не только своими номерами, но и принимали участие в других эпизодах. А затем, за два месяца до поездки, гитисовские педагоги по английскому языку выучили с ребятами перевод текста.
В конце октября 1989 года мы отправились в Америку. Не знаю, может быть, кто нас сглазил, но нелепости просто преследовали нас. Началось с того, что накануне отлета выяснилось — Союз театральных деятелей (СТД) не достал билетов. Дело было вечером, а самолет — завтра рано утром. Звонки ни в МИД, ни в Министерство культуры результатов не дали. Мы сидели в СТД и мысленно уже прощались с гастролями.
Но тут появился Дима Ханин — молодой человек из международного отдела СТД, человек с фантастическими администраторскими задатками. Он один сделал невозможное. Мы поехали с ним в транспортное агентство, и он растворился «за кулисами» этого таинственного учреждения. Прошел томительный час, другой. Мы послушно стояли, прячась в темном вестибюле, пока около часа ночи в лучах света, падающих от уличного фонаря, не появился мрачный Дима с кипой билетов в руках: футбольная команда, которая утром должна была вылетать нашим (теперь уже нашим!) самолетом, не получила подтверждения от принимающего ее американского клуба, и Дима буквально вырвал билеты.
От радости мы совсем забыли, что билеты выписаны на другие фамилии. Рано утром в Шереметьево нас ждал новый сюрприз: фамилии в паспортах и билетах не совпадали, и нас не допустили к посадке. Ситуацию опять спас фантастический Дима. Он снова исчез «за кулисами» международного аэропорта и через полчаса вернулся с новой кипой билетов. Как он добивался этого — одному Богу известно, но на наших глазах происходили чудеса: мы знали, что очередь за билетами в Америку стояла по полгода...
Когда мы проходили через таможню, я громко сказал, что две неприятности уже случились, но Бог троицу любит. Все засмеялись, не предполагая, насколько мрачным было мое пророчество.
Оно подтвердилось в нью-йоркском аэропорту: наш багаж пропал — весь, до единого чемодана! Мы стояли в громадном нью-йоркском аэропорту, растерянные, брошенные, понимая, что все рушится. На меня смотрели с укоризной — «накаркал»! Хорошо еще, что в Шереметьево, перед посадкой, наш педагог доцент А. Одинокова переложила из чемодана в сумку фонограмму спектакля и взяла с собой в самолет. Это нас спасло — без музыкальной фонограммы мы бы спектакль не сыграли.
Ночью автобусом мы приехали в Бостон. Хозяев мы, естественно, огорчили, рассказав о случившемся, — впору было отменять гастроли. Но американцы решили по-иному. С раннего утра они открыли для нас свои костюмерные, реквизиторскую, предложили на выбор различное сценическое оформление. К вечерней репетиции весь спектакль был так оснащен, «одет и обут», что я даже порадовался, что родной Аэрофлот сыграл с нами такую шутку...
До глубокой ночи мы репетировали на сцене Эмерсон Мажестик театра, главного театра Бостона, где когда-то, еще в 20-е годы, играли великие актеры МХАТа, гастролировавшие тогда в Америке. Как писали газеты, мы были после МХАТа второй русской труппой, играющей на сцене этого американского театра.
Перед началом наших выступлений мы напомнили американским друзьям еще об одном случае, говорящем о давних связях Бостона с русской культурой: К. С. Станиславский написал свою знаменитую книгу «Моя жизнь в искусстве» по заказу бостонского издательства. Впервые книга вышла здесь, в Бостоне. Для американского зрителя это было сюрпризом, ибо знаменательный факт в истории советско-американских культурных отношений прочно забыт в США. Как, впрочем, и у нас.
...Генеральная шла до часа ночи, и радости нам не принесла. Все было непривычно: большая сцена, темнота трехъярусного зрительного зала, чужие костюмы и реквизит, усталость от дорожных передряг, отсутствие профессионального опыта... Наши хозяева приуныли, и мы тоже: ведь на следующее утро, в 11 часов, начинались наши гастроли в Америке.
В половине второго ночи все собрались у меня в номере. Я понимал — ребята напуганы, растеряны, боятся завтрашнего, как им казалось, провала. Надо было любой ценой вывести их из состояния подавленности. И я решился на крайнюю меру: добрый час я ругал их, говоря о том, как жалею, что ввязался в авантюру с ними, ничего не умеющими делать. И лишь когда увидел, как дернулись мои дорогие ребята и злой огонек стал мелькать из-под насупленных бровей, понял — разозлились, активизировались.
Ночь была бессонная. И, думаю, не только у меня одного. Утром все собрались в театре. Я начал успокаиваться — ночной «душ» явно принес пользу: все почувствовали себя уверенно.
На первом представлении, зрителями которого была молодежь, успех определился сразу. Когда Игорь Песоцкий (главный исполнитель) вышел и сказал первую фразу по-русски, а затем, спросив у зала, поняли ли его, тут же перевел себя на английский — зал грохнул. И смех не умолкал все два часа, пока шел спектакль.
Вечером, на «взрослом» зрителе, успех был еще большим. В тот вечер ребята играли как никогда. Почувствовав теплое отношение зала, они легко, весело «купались» в комическом материале. И вспомнилось забытое и прекрасное слово «вдохновение».
Американские газеты оперативно откликнулись на спектакль: уже на следующий день вышли рецензии. Мнение прессы было единодушным — нас хвалили. Но и очень веселились по поводу нелепостей, сопровождавших нашу поездку.
Мы играли в Бостоне неделю, затем переехали в другой известный университетский город Америки — Нью-Хейвен. Иельский университет создает славу Нью-Хейвену (как Гарвардский — Бостону), равно как и одно из знаменитых джазовых направлений.
В городском Репертуарном театре, где предстояли наши выступления, нас ждал сюрприз. Сцена была занята декорациями идущего там спектакля, да не просто декорациями, а какими-то многотонными бетонными плитами, вмонтированными в пол. О перемонтировке не могло быть и речи, а на все про все нам отпустили одну-единственную репетицию. И пришлось «переставлять» спектакль: часть его я перенес в зрительный зал, и из сценической площадки использовалась лишь авансцена. Но мы имели успех не меньший, чем в Бостоне. После спектакля вечером поехали в Нью-Йорк, где ребята бродили по ночному Бродвею...
Улетали мы из Вашингтона. Много часов ехали автобусом по залитой теплым солнцем золотой от осенних лесов и садов Америке — незабываемая поездка!
Алла, Женя, Клара, Лайма...
Мне хочется рассказать о многих из наших выпускников. Они очень одаренные люди, крупные индивидуальности — актеры, режиссеры, музыканты — со своим неповторимым творческим почерком.
Но, к сожалению, объем книги не позволяет мне написать обо всех. Поэтому я написал о некоторых. Но это вовсе не значит, что к другим я отношусь хуже.
Ребята! (Можно мне по старой памяти так вас назвать?) Не обижайтесь! Вы все навсегда в моем сердце. Я радуюсь вашим замечательным успехам и горжусь вами. Обещаю — если суждено мне написать еще хоть одну книгу — я напишу ее о вас. Успеха вам!
Алла Пугачева

...на сцене

...на экзамене

...перед выпуском

...в составе экзаменационной комиссии
Она поступала к нам дважды.
Первый раз — когда работала в джазе Олега Лундстрема: пришла совсем молоденькой, пела лирические песни, аккомпанируя себе, читала стихи. Понравилась всем — в ней и тогда уже была видна некая искорка. Ее допустили к экзаменам, но в тот раз Алла не поступала: джаз уехал на гастроли, и на приемные экзамены она не успела.
Через несколько лет Алла пришла к нам во второй раз. Ее уже знали многие. Но держалась она спокойно, скромно, я бы даже употребил слово, сегодня ставшее почти анахронизмом, — интеллигентно. Написал — и сразу увидел иронические ухмылки: «Пугачева — и интеллигентность? Ее громкие «истории», экстравагантность поведения — и интеллигентность?»
Не спешите. И не радуйтесь, что можете мне крикнуть знаменитое булгаковское «Поздравляю вас соврамши!».
Я — не соврамши. Просто — мы знаем разных Пугачевых. Надо уметь отделять внешнюю форму, маску, от сущности человека и не спешить с выводами.
Зрители знают одну Пугачеву — и она много сделала для этого, чутко учитывая психологию нашей публики, ее — скажем мягко — невысокую культуру. И оттого — нездоровую тягу к сенсационности, скандалу, шуму. Отсюда — экстравагантность поведения артистки, умение возбуждать вокруг себя нервную обстановку, постоянный интерес к своей личности, истеричное обывательское любопытство. Отсюда — желание масс любой ценой проникнуть в запретные уголки жизни звезды, притягивающей своей необычностью, неожиданностью, тайной таланта. Поэтому вокруг Аллы всегда тревожная атмосфера, ажиотаж, подогреваемый «причудами звезды», а зачастую — и спровоцированный ее недругами. Но в любом случае — все играло на успех, будоражило умы, вызывая дополнительное внимание.
* * *
Это напоминало мне молодого Маяковского и русских футуристов, которым нужна была — смертельно необходима! — известность, слава. Поэтому — скандал громоздился на скандал, выходки следовали за выходками! И лица они разрисовывали, и публику, пришедшую на их концерты, почем зря крыли, и «Пощечину общественному вкусу» публиковали, и Пушкина «с корабля современности» сбрасывали.
Футуристы были народ шумный, беспокойный и достаточно уверенный, и своего добились: славу приобрели и в истории российской культуры след оставили. Правда, в основном благодаря главной фигуре русского футуризма — Маяковскому. Он тоже в молодости принимал самое деятельное участие во всех футуристических проделках. Никто не знал истинной души его, и только однажды он приоткрыл тайну:
По мостовой
моей души изъезженной
шаги помешанных
вьют жестких фраз пяты.
Где он был настоящим? Когда «эпатировал буржуа» или же когда говорил о своей «душе изъезженной»? Скорее всего — и там, и там.
И вообще, может ли кто-нибудь из булгаковской «зрительской массы» понять, что движет художником и в чем сильнее всего запечатлена тайна его души?..
Конечно, проще всего судить о человеке, об артисте по внешним признакам. Так оно нагляднее, проще и главное — доступнее: меряй на свой манер. И в результате ты испытываешь к звезде двойственное чувство — любовь-ненависть. Ибо ты покорен ее талантом, но в глубине души зреет тайна, о которой даже самому себе не признаешься. Тайна глубоко запрятанной ревности — что не ты; зависть — что не ты; даже ненависть — что не ты...
И вдруг звезда оказывается такой же, как ты — земной, доступной и ординарной. Как ты...
Вот такие сложные взаимоотношения звезды со «зрительской массой», всегда воспринимающей ее с чисто внешней стороны, где немало придуманного, сделанного, маскировочного.
Мы в ГИТИСе увидели и запомнили Аллу совершенно другой. И думаю, что облик «нашей Пугачевой» значительно ближе к оригиналу, нежели обывательский.
Когда узнали, что она поступила к нам, «нахлебавшиеся» от нее некоторые начальники забегали, пугая: «Человек она трудный, неуправляемый и неконтролируемый. Ждите от нее беды!»
Но ничего подобного за те 5 лет, что Алла училась у нас, не было. Все как раз наоборот.
Училась она прекрасно: сколько лет прошло, а педагоги и по сей день приводят ее в пример новым студенческим поколениям.
С самого начала ей было сказано: «Забудь, что ты певица. Ты умеешь петь и без нас, а тебе нужно научиться многому помимо пения». Так и было: за пять лет я не помню, чтобы Алла запела на каком-нибудь показе. Она была кем угодно — драматической актрисой, клоуном, танцовщицей, рассказчиком, исполнительницей фельетонов, музыкальным эксцентриком... Но только не певицей. И в актерских, и в своих режиссерских работах.
Курсом, на котором училась Алла, руководил наш выпускник Андрей Николаев — человек уникального дарования: и как актер, и как режиссер. Обладатель высших международных призов, он единственный из наших эстрадных и цирковых режиссеров награжден цирковым «Оскаром». Вот какой учитель был у Аллы!
И вообще, мы вспоминаем уже много лет этот поистине «звездный» курс. Кроме Аллы, там учились Сергей Дитятев, Анатолий Елизаров, Павел Слободкин. Они остались после окончания ГИТИСа педагогами на нашей кафедре. На курсе была и Екатерина Шаврина, и Михаил Котляр и еще немало других талантливых людей. Тогда, в 1975 году, они еще не были знаменитостями, но их природный дар ощущался уже явно.
Учились они серьезно и ответственно, ибо пришли в ГИТИС не за дипломами, а за новой, необходимой для них профессией режиссера эстрады.
Показы на курсе Николаева всегда бывали прекрасными: уж больно талантливые студенты в них участвовали. Но Пугачева выделялась даже среди них.
В том, что она человек исключительно одаренный, не сомневался никто. Даже те, кто прямо-таки со сладострастием постоянно преследовал ее в прессе, сочиняя всякие гадости, по-плюшкински выискивал и вытаскивал «пыльных мух из бутылки»...
Пугачева — профессионал высшей пробы. Потому что профессия становится не только целью жизни, а значительно больше — самой жизнью. Профессия — жизнь. Не ощущение ли этого испокон веку делало мастера — Мастером, ибо Мастер не мог жить иначе. Это задано природой, и по-другому выстроить жизнь невозможно.
И еще — проблема лидерства. Лидером рождаются — и не только в политике. В искусстве — тоже. Лидер — всегда одиночка. В этом его сила и его горе. Он обречен на одиночество — и в искусстве, и (если быть откровенным) в жизни.
Откуда рождается лидерство — не только как самоощущение, но и как предназначение? Наверное — еще с детских лет, когда ребенок подсознательно добивается утверждения своего «я». А потом — и в юности, когда человек идет к цели, встречая на пути в основном препятствия. Все это приучает человека к тому, что надеяться можно только на себя, на свои силы, мастерство, талант. И — на мужество. Эта борьба закаляет характер, выковывает качества лидера. И в той круговерти, которая образуется вокруг любой талантливой личности, необходим центр, притягивающий как магнит. Им и становится лидер.
С годами Пугачева и стала таким лидером. И не только артистическим. А лидером, определяющим целое направление, созданное ею.
Алла сама не раз говорила в своих многочисленных интервью, что ГИТИС дал ей много. Это видно по тому, как после окончания режиссерского курса развивалось ее творчество: она пришла к концертной режиссуре, а затем — к созданию своего уникального «Театра песни».
Пугачева — не только блестящая актриса и режиссер. Она и прекрасный продюсер. Может быть, раньше других на нашей эстраде она поняла силу рекламы и всерьез занялась этой проблемой.
Программки, многочисленные пластинки, красочные плакаты и афиши, календари с ее изображением, пропаганда на телевидении и на радио — все это заслуга Аллы. Она тратила на это много времени, сил и даже собственных средств. Но своего добилась — запущенный несколько лет назад неповоротливый маховик советской рекламы уверенно и постоянно работает на Пугачеву. И хотя есть у нее хорошие административные помощники, но душа этого рекламного механизма — сама Алла.
В этом она абсолютная «западница»: там все используется для рекламы звезды — личная жизнь, разговоры, романы, скандалы, даже болезни. Все это подогревает интерес к артистке.
Конечно, секрет популярности Пугачевой, долговечности ее успеха у зрителя не в рекламе. Наивно думать, что при помощи рекламы можно создать то, чего нет. Реклама — лишь сопутствующий элемент. Кроме того ее необходимо постоянно оправдывать и подтверждать. Иначе никакая — даже великолепная — шумиха дела не спасет.
Пугачева — одна из немногих на эстраде, выдержавших испытание временем. Потому что не остановилась: беспокойство, неудовлетворенность — органическое свойство ее души.
Она постоянно в пути. Много найдено Аллой в ее искусстве. И ей много еще суждено открыть.
Певица, актриса, режиссер... Нет, это еще не все. Желание выразить себя до конца у Аллы удивительно. Она сама стала писать песни. И отличные песни. И сама их ставила — каждую, как мини-спектакль. И сама исполняла.
Своими песнями Пугачева не развлекала. В ее монологах явственно слышен драматизм жизни, общей невеселой женской доли. А случалось, что в своих песенных монологах она поднималась до полного трагизма: это было, когда композитор Алла Пугачева обратилась к сонету Шекспира.
Хотим мы того или нет, но Пугачева — явление социальное. Собирательное, вобравшее в себя наше время, — его смятение, сумбурность, нерв, страстность, стремление вырваться из оков серой жизни, показной добропорядочности, условностей, осточертевшего стереотипа...
И еще. Пугачева — бунтарь. Убежденный и сильный. Вся ее жизнь — протест. Яростный протест против всего отжившего, злого и унылого. Пугачева — это вызов. Рыцарский вызов. Открытое и честное приглашение к бою — всех и вся. Бывает, что вызов ее принимают. И отвечают — либо бешеными овациями, либо такой же злобой, недоброжелательностью, завистью. Равнодушных почти не бывает: либо ненависть, либо любовь.
Мне всегда импонировало в Алле то, что она никогда, никого и ничего не боялась. Даже в молодости, когда только начинала.
Она не знает, что такое страх. Ни в жизни, ни в творчестве. Может быть, это тоже — слагаемое того феномена, которой зовется «Алла Пугачева»?
Мне даже кажется иногда, что она сознательно ставит себя в сложные положения, вызывая на себя огонь, испытывая судьбу.
Помню, как мы смотрели по телевидению «Новогодний аттракцион», действие которого происходило в цирке. И вдруг Алла, усевшись на трапеции, взмыла под самый купол (это почти 20 метров — высота семиэтажного дома!) и, очаровательно улыбаясь, запела «Миллион алых роз». Да еще без всякой страховки, без лонжей! Случись что-нибудь — одно неосторожное движение и... насмерть... И в этот раз она испытывала судьбу. Ведь даже опытные артисты цирка не пойдут на трапеции под купол цирка без лонжи: они знают, чем это может кончиться.
Алла тоже знала. Тем более что никто ее не заставлял рисковать жизнью — это она сама придумала и держала втайне от всех: понимала, что ей запретили бы. Но она отчаянно и (я уверен!) весело пошла на этот смертельный (без кавычек!) трюк. Когда же съемка закончилась и Алла благополучно спустилась с цирковых небес, то (по свидетельству Игоря Кио) на вопрос, как же она решилась на такое да еще без лонжи, Алла ответила: «Только дурак может оттуда упасть!»
В этом — вся Пугачева. Постоянный риск, игра с опасностью, даже (без всяких преувеличений) — со смертью. Мне кажется, вся ее жизнь — на трапеции, без лонжи, над пропастью. И это не стечение обстоятельств: она сама выбирает свой путь. И всегда — игра. Отчаянная, увлеченная, самоотверженная. И всегда — веселая и даже радостная. Потому что она верит только в одно — в победу.
Потому и побеждает.
Евгений Петросян
Женю Петросяна я помню совсем молодым: он еще учился во Всероссийской мастерской эстрадного искусства (ВТМЭИ). И когда учился — был шатеном. В выпускном спектакле неожиданно вышел... блондином. Да к тому же стал вдруг Петровым.
В этой метаморфозе чувствовалась уверенная рука художественного руководителя ВТМЭИ Л. Маслюкова, смело перекрасившего юного конферансье из шатена в блондина и поменявшего ему армянскую фамилию на русскую. Может быть, по тем временам в этом и была необходимость?.. Но начав выступать, Женя опять стал шатеном и взял «девичью» фамилию.
Его учителем был Алексей Григорьевич Алексеев. Думаю, Жене повезло с первых шагов, что он попал к этому патриарху конферанса, потому что А. Г. Алексеев был выдающимся, уникальным мастером. А затем Петросян вел программу у Л. О. Утесова, что тоже было превосходной школой, ибо Леонид Осипович сам был первоклассным конферансье.
Шли годы, и Евгений Петросян стал одним из лучших конферансье на нашей эстраде. Он умеет делать все: читать монологи, делать репризы, превосходно ощущать ритм концерта, который, по существу, зависит от него. Но наступил момент, когда он перестал конферировать: его звало иное.
Конферансье, как бы он ни был талантлив и высокопрофессионален, фигура творчески не совсем самостоятельная — в известной мере (по отношению к другим жанрам) подчиненная. У него определенные функции: вести концерт, подготавливать номера, уметь их «преподнести». Но Е. Петросян мечтал о другом — о моноспектаклях, о полном творческом самовыражении.
К тому времени его мастерство было очевидно: он легко и изящно разговаривал со зрителем, с первой же минуты находя взаимопонимание с залом; уже родилась характерная для исполнительской манеры Петросяна открытость, добрый юмор; его отличали вкус к строгости, сдержанность и (что немаловажно!) интеллигентность.
Петросян сохранил найденное в конферансе и развил его. Теперь он стал играть сложные характеры, неоднократно перевоплощаясь в течение вечера, и делал это мастерски. И все дальше уходил от внешнего решения образа к воплощению психологической сути. И хотя работали с ним разные режиссеры (и высокопрофессиональные, и, прямо скажем, не очень), у артиста постепенно стало проявляться еще одно качество — тяга к режиссуре. В работе над спектаклями он все больше и больше (может, и неосознанно), но становился сорежиссером. Потому что своеобразное видение той или иной проблемы, того или иного образа, давало ему основание определять и художественное решение их.
Естественно, что, став мастером жанра, он пришел к нам на кафедру обучаться режиссуре.
Я видел Евгения Петросяна на эстраде и знал его как студента. И там, и в ГИТИСе его отличала общая черта — фантастическая работоспособность. У нас он шел по трехгодичному спецкурсу: должен был за 3 года сделать то, что обычно проходят студенты за 5 лет. Он взвалил на себя тяжелую ношу: ведь при этом Петросян продолжал активно выступать на эстраде с юмористическими рассказами — жанр, на который он перешел, оставив конферанс.
Блестяще окончив институт, он приступил к созданию своего театра. И добился — создал театр, названный им «Московский концертный ансамбль».
Я видел, как он работает с авторами. К тексту исполняемых монологов и сцен Петросян предельно внимателен: постоянно что-то переделывается, дописывается, меняется... Артист знает цену эстрадной репризе и бьется за каждую строчку, каждое слово, единственное. Поэтому всегда тексты Петросяна — высокого класса. Да и авторы тоже — Аркадий Хайт, Михаил Задорнов, Альберт Левин, Игорь Виноградский, Лион Измайлов, Сергей Кондратьев.
Петросян на сцене — это обаятельный, добрый, отзывчивый артист. Но в работе с автором он — режиссер, требовательный, с явным ощущением конечного результата, с точными выводами. Такой же он, когда репетирует со своими актерами.
Евгений Петросян прекрасно зарекомендовал себя и как худрук своего театра, и как режиссер: за спектакль «Инвентаризация» ему присуждено звание лауреата I Всесоюзного конкурса режиссеров эстрады. Я радуюсь за Женю Петросяна — моего талантливого друга, земляка-бакинца, человека беспокойного, творческого. И когда он выходит на эстраду со своей доброй улыбкой, мне кажется — он все тот же, каким мы его узнали в начале шестидесятых, — юноша с сердцем, открытым людям...
Елена Камбурова
В ней все — свое, собственное, выстраданное. Свое творческое лицо, не похожее ни на кого, ни на одну из эстрадных певиц. Амплуа Камбуровой — уникальное: музыкальная публицистика. Может быть, и нет такого научного определения, но, по существу, — это так.
Надо обладать определенным мужеством художника, чтобы пойти на такое самоограничение. Чего чаще всего ждут зрители, идя на концерт обычной эстрадной певицы? По стереотипу — песен о любви, о сексе (теперь разрешено!), зачастую сдобренных изрядной порцией иронии. Тут ничего не надо объяснять зрителям — сами разберутся!
А с Еленой Камбуровой — иначе: ведущему приходится объяснять, что концерт этот необычный, потому что певица необычная как и все, что она делает на эстраде. «Орленок», «Гренада», «Маленький трубач» — кто еще решился бы выходить с этими песнями на большие залы и годами «гнуть» свою линию?
А Камбурова — решилась. Честь ей и хвала. Выбранная ею линия потребовала колоссальной работы, ибо публицистика — дело сложнейшее. Чтобы убедить зрителя в своем праве звать их за собой, обращаться к их гражданскому самосознанию, надо это право иметь. Проще, конечно, не погружаясь в глубины, чирикать незамысловатые песенки о любви — как говорил Маяковский, «доходней оно и прелестней».
Много пришлось пройти Елене Камбуровой, прежде чем достичь подлинного мастерства. И она стала настоящей актрисой: каждая ее песня — законченная музыкальная новелла, в которой артистка проживает целую жизнь. Это — результат долгого поиска смысла произведения, его философской основы, поэтического строя. И так — с каждой песней.
Критика справедливо отмечала, что одно из свойств дарования Камбуровой — умение исследовать, сопоставлять. Отсюда — психологизм ее исполнительства.
И еще — Елена отлично владеет словом. Не случайно она мечтала стать чтицей. Я уверен, у нее это отлично получилось бы, потому что Камбурова владеет даром вскрывать подтекст, владеет сложнейшим актерским делом — словесным действием.
В этом органичном единении музыкальной эмоциональной стихии и словесного действия — своеобразие таланта Елены Камбуровой. И когда она училась у нас в ГИТИСе, все эти ее качества проявлялись довольно определенно — и в ее актерских (не певческих: так же как и Пугачева, она у нас не пела) работах, и режиссерских: она всегда шла от смысла.
Училась Елена отлично — не считаясь со временем, понимая, что годы пребывания в институте надо использовать максимально. Тем более, годы эти летели стремительно. Наверное, это тоже черта таланта — знать, чего тебе недостает. Настоящие мастера знают, что никогда не поздно учиться. А учиться всегда есть чему.
Клара Новикова
Клара Новикова сегодня — одна из самых популярных на эстраде актрис. Ее знают, любят, повторяют фразы ее монологов...
Может быть, в ее популярности сыграло роль и то, что среди мастеров речевых жанров — Геннадия Хазанова, Евгения Петросяна, Романа Карцева, Сергея Дитятева, Владимира Винокура — она — единственная женщина? Конечно же, не это главное.
Она получила известность сразу же после V Всесоюзного конкурса артистов эстрады 1976 года. Зрители приняли ее с первого знакомства. И полюбили. За искренность, за то, что женщины узнавали в ее молоденькой героине самих себя, с понятными всем проблемами, огорчениями и надеждами. Монологи Клары строились, как беседа со зрителем. Эта интонация доверительности в ответ рождала доверие зала, который сочувственно относился к ее милой и наивной героине.
Но в такой исполнительской манере таилась опасность однообразия, сковывавшая дарование. Профессионалы видели это, и ощущение не используемых до конца возможностей не покидало, когда мы смотрели Новикову на эстраде.
Думаю, ощущала это и сама Клара. Поэтому пришла в ГИТИС. На целых пять лет ее учителем стал Вячеслав Шалевич. Сам хороший актер, он верно ощущал природу дарования Клары, понимал, что мешает проявиться в полной мере ее артистическим силам.
В институте Клара начала с азов — элементарных «первокурсных» этюдов на внимание, органическое молчание, общение, с первооснов актерского мастерства. А затем были отрывки из пьес, водевилей, публицистические работы в речевых жанрах.
Надо отдать Кларе должное — она выкладывалась самоотверженно и, невзирая на свою уже существующую известность, не стыдясь пошла в ученицы. И не просто числилась ею, а и в самом деле стала таковой. Участвовала в самых различных работах, сознательно пытаясь расширить жанровый диапазон своих актерских возможностей. Мы видели, как Клара росла от показа к показу, как в ее исполнении появлялись все новые и новые краски.
Клара окончила ГИТИС, и начался новый этап в ее творчестве, точнее даже — взлет. Теперь она выступала уже не с номером в сборных концертах, а выдерживала одна целый вечер (это невероятно трудно!). Она пришла к моноспектаклям, исполняя в течение концерта большое число ролей.
Сейчас в репертуаре Клары Новиковой более значительные темы, чем прежде: она смело стала обращаться к публицистике, даже — к политсатире. И во всем постоянно звучит лирическое «я» серьезного художника. Постоянно ощущается неординарная личность Клары, ее убежденная гражданская позиция, нетерпимость к безобразиям нашей жизни.

Борис Брунов
Евгений Петросян
Олег Марусев
Лайма Вайкуле
Клара Новикова и Ефим Шифрин

Сергей Дитятев
Андрей Николаев
Владимир Назаров
Фая Иванова-Хачатурян
Елена Камбурова
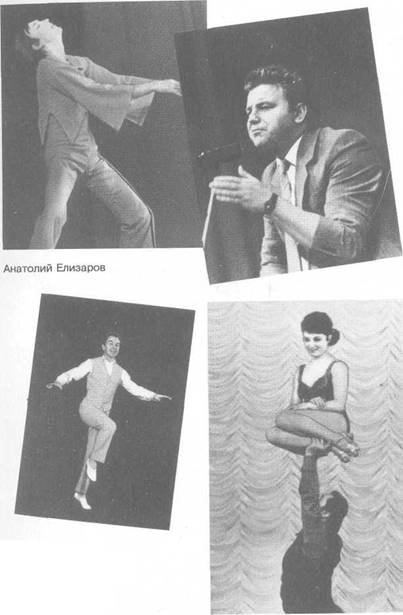
Анатолий Елизаров
Михаил Евдокимов
Владимир Кирсанов
Ирина Осинцова
Лайма Вайкуле
Когда Лайма пришла к нам в ГИТИС на экзамен, она вовсе не была звездой. Выступала тогда, если не ошибаюсь, в рижском варьете. Комиссии она понравилась сразу. Читала стихи, прозу — выразительно и сильно, немного смущаясь своего акцента, пела и тогда отлично. И что было самое неожиданное — прекрасно двигалась. Танец, пантомима — телом она владела замечательно.
Мы разговорились с ней на экзамене сверх обязательной программы — всех заинтересовало своеобразие ее незаурядной личности. Выяснилось, что Лайма, помимо пения, еще профессиональная танцовщица, что на эстраде с 16 лет: совсем юной пришла в ансамбль, которым руководил Раймонд Паулс.
Потом выступала с различными эстрадными группами, пришла в варьете. В песнях Лаймы органически сочетались вокальный образ и пластика — изящная, порой вычурная, причудливая, но всегда очень точно выверенная и до мелочей отработанная.
Форма для Лаймы — это не просто комплекс актерского существования. Пластическое решение каждого номера для нее — выразительное средство, которым она владеет в совершенстве.
Ее сотрудничество с Раймондом Паулсом открыло своеобразный жанр — песни-портреты: Чарли Чаплин, Шерлок Холмс словно заново ожили в этих миниатюрах.
В них раскрылась новая грань дарования Лаймы: она — прирожденный музыкальный эксцентрик. Лайма не боится быть смешной, угловатой, если это соответствует характеру образа. Она купается в эксцентрике, где ей легко, свободно и радостно дышится, — это ее стихия.
В процессе учебы на режиссерском курсе у Лаймы выявилось своеобразие профессионального мышления, которое воплотилось в ее прелестных песенных мини-спектаклях, поставленных ею и ею же исполненных.
Я очень жалею, что те, кто будет читать эти строки, не могли видеть последнего (на 4-м курсе) гитисовского режиссерского показа Лаймы Вайкуле. Она задумала музыкально-пластическую философскую новеллу о вере, о борьбе с неверием, о том, что без веры нет и не может быть Человека. Она сама и исполнила ее с присущей ей страстностью, романтикой, в своеобразной причудливой и несколько изломанной пластике. В этой работе неожиданно прозвучал трагический мотив, глубокий и искренний. И это было очень талантливо. Я уверен — мы еще услышим о Лайме Вайкуле — режиссере.
Владимир Назаров
Солнца луч золотой
Бросил искру свою
И своей теплотой
Согрел душу мою.
И надежда в груди
Затаилась моей:
Что-то жду впереди
От грядущих я дней.
Эти чудесные есенинские стихи вспомнились мне, когда я услышал русскую народную песню, которую пели — именно пели! — старинные народные инструменты. Пели, словно птицы: курлыкали журавлями в небе, посвистывали синицами, заливались соловьями. И подумалось: сколько же сокрыто за этими напевами с их протяжной мелодией, с внутренним ритмом, за этой концентрированностью душевного состояния, говорящей о высокой устремленности? Сколько веков звучали эти мелодии на Руси? Звучат и до сих пор и будут еще жить и жить.
В глубинном подтексте народных песен явственно ощущается призыв к людям — быть выше, чище, возвышенней душой. В этом — смысл и нравственная сила песен, духовная сущность: любовь к родной земле, к России, к тем живительным истокам, которые всегда питали творчество, к фольклору.
И ничто, веками посылавшееся злыми звездами на землю нашу, не смогло уничтожить ее; уничтожить народа, исполненного такой могучей силы; уничтожить его многовековую культуру, такую яркую и неповторимую. Поэтому и сегодня прикосновение к фольклору обладает такой силой воздействия на людей.
Вот такие мысли родились у меня, когда я впервые услышал «Жалейку». Их было четверо — совсем юных парней, трогательных и немного смешных своей серьезностью и ощущением важности творимого ими.
А случилось то, что, к счастью, уже не раз случалось в искусстве, — появился талантливый подвижник, энтузиаст. Володя Назаров собрал своих однокурсников по Московскому институту культуры, и стали они изучать фольклор. Ребята разыскивали старинные, чудом сохранившиеся народные инструменты, стали создавать на их основе современные модификации.
Так родился уникальный ансамбль. И назвался он «Жалейкой». Отправился он радовать людей по градам и весям — сначала у нас, а потом и за рубежом. И зазвучали русские мелодии: то негромкие, протяжные, полные скрытой потаенной силы, то звонкоголосые плясовые — задорные и веселые.
Володя Назаров начинал как музыкант-фольклорист и начинал отлично. Но еще в студенческие годы он сказал себе, что когда-нибудь создаст Театр фольклора. И не только русского — вся планета «войдет» в этот театр, наполнив его песнями и танцами народов мира. Но цель была далеко, и путь к ней был долог — длиной во много лет...
Первым шагом стала «Жалейка», которой сопутствовал успех: лауреатство на нескольких конкурсах. Казалось бы — чего еще? Но в назаровской душе зрела мечта: соединить фольклорную музыку с действом, создать целостные спектакли.
Так родился Ансамбль фольклорной музыки, созданный Владимиром Назаровым после «Жалейки».
В арсенале нового коллектива уже было множество различных инструментов, а в репертуаре — песни и танцы народов мира. И главное — началось создание «зримой песни»: каждая из них превращалась в мини-спектакль, со стихией сценической игры, с яркими народными образами, сдобренными сочным юмором.
В ансамбле выросли талантливые артисты, каждый из которых играл на многих инструментах. Это — Тамара Сидорова, Ирина Гущева, Константин Кугналиев, Василий Порфирьев, Михаил Каневский, Владимир Реут... В этом сказался педагогический дар Владимира Назарова: он многому смог научить совсем молодых музыкантов.
Когда мне доводилось быть художественным руководителем Дней России или Дней Москвы за рубежом, я старался включать назаровский ансамбль в программу концертов. Их выступления всегда прекрасно принимались и в Мадриде, и в Афинах, и в Париже, и в Белграде, и в Америке, особенно — в Латинской.
Назаров нашел удивительный ход в решении актерского действия: ребята с первых же минут настолько доверительно, добро и весело общались с залом, что мгновенно становились «своими» в любой стране, для любой публики.
Но должен сказать честно: характер Володи — не подарок. Помню наш конфликт на репетиции перед открытием Дней Москвы в Афинах. Я потребовал внести некоторые изменения в песенных эпизодах назаровского ансамбля. Он отказался, в ответ я взорвался, он мне стал отвечать...
На репетиции присутствовало руководство нашей делегации, конфликт, как всегда в этих случаях, стал разгораться. Словом, возникло целое «дело». У меня после репетиции остался неприятный осадок, а когда перед концертом я встретил на сцене Назарова, то по его мрачному виду понял, что он тоже не в себе.
Но после концерта, прошедшего с громадным успехом, (греки оказались невероятно темпераментными зрителями, и мне вспомнились описания бурной реакции огромного зала в театре Диониса, еще в Древней Элладе) мы разговорились. Назаров сам подошел ко мне, объяснил, почему отказался внести изменения в выступление ансамбля. И, надо отдать должное, объяснил довольно убедительно. Да и я уже остыл и жалел о конфликте. Но вместе с тем я не мог не оценить самостоятельности назаровской позиции.
А потом он рассказал, что задумал новые программы ансамбля, что мечтает учиться режиссуре, чтобы в дальнейшем создать музыкальный фольклорный театр. Кончилась наша беседа тем, что я пригласил Владимира к нам учиться.
Назаров отлично выдержал вступительные экзамены и стал нашим студентом. Так уже не раз бывало в моей жизни — начинаются отношения с конфликта, а превращаются в творческую дружбу. Конечно, нападая на молодого руководителя ансамбля, я не знал, что направлял свой режиссерский сарказм в адрес своего будущего студента, а в дальнейшем — и педагога нашей кафедры.
Как он учился? Так же, как и другие наши звезды-студенты, — лучше многих.
Он отлично понимал, что ему нужно от ГИТИСа (одно высшее образование, музыкальное, у Назарова уже было). Весь сложный процесс обучения Владимир прошел полностью, не пренебрегая ничем: знал, что лишних предметов там нет — все необходимо изучить, понять, постичь. Для своей будущей профессии — режиссуры. Он набрался терпения и превратился в старательного студента (представляю, чего это ему стоило: при его-то характере да при том, что он имел за плечами успех и признание!).
Но он пришел учиться. И учился.
Результат был блестящим.
Теперь Владимир Назаров наконец создал свой театр. Единственный и неповторимый Государственный музыкальный фольклорный театр. Назаров — его душа, художественный руководитель, директор и руководитель музыкальный. На характере и стиле спектаклей — отпечаток личности Назарова: их отличает яркость, темперамент, хороший вкус, красочность, юмор. И — жизнерадостность, какая-то юношеская, непосредственная, неуемная.
Но творческий темперамент Владимира Назарова уже «перехлестывает» эти рамки: только театра ему мало: как композитор он написал музыку к двум десяткам мультфильмов и сделал это талантливо. Среди его многочисленных эстрадных песен есть ряд подлинных шлягеров. К примеру, «Ах, карнавал» звучит вот уже более 15 лет.
Он еще и блестящий организатор (в полной мере выполнил один из заветов Немировича-Данченко — «режиссер-организатор»). А теперь Владимир Назаров стал и педагогом нашей кафедры, обучает молодых режиссуре фольклорных жанров.
Вот такой он, наш выпускник.
МОИ НАДЕЖДЫ
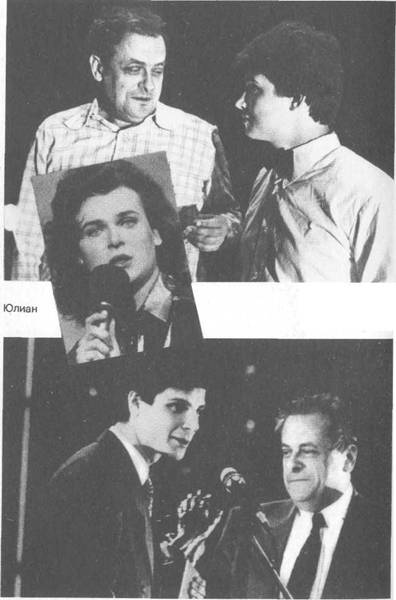
Алексей Гарнизов
Юлиан
Сергей Косач
Глава предпоследняя. О разном
В этой главе нет стройной конструкции.
Здесь бессистемно изложено все — и по темам, и по настроению. Многое извлечено из моих записных книжек — и «древних», сорокалетней давности, и более «молодых». Систематизировать это невозможно, да и не стоит.
Так что примите эту мозаику как данность и простите автора за известную хаотичность и отрывочность.
У каждого есть пример, которому он следует всю жизнь. У меня — Александр Довженко. И как человек, и как художник.
Ведь это он сказал вещие слова: «А сердце нести высоко...»
Дай Бог, чтобы получилось так. Хотя это и очень трудно.
Особенно в наши дни.
Довженко — художник гениальный, всегда стремившийся к предельной выразительности, полный желания сказать о нашей жизни все, что переполняло его душу. Довженко признался, вспоминая о создании своей картины «Звенигора»: «Я ее не сделал, а пропел, как птица».
Может быть, в этом секрет — пытаться не делать, не мастерить, не сковывать себя выстроенностью, а довериться интуиции, своим чувствам и желанию выразить себя. Не так, как положено по профессиональным правилам, а так, как сердце подскажет. Может быть, это звучит сегодня старомодно.
«Не сделал, а пропел, как птица». Гениальный Мастер знал о тайнах нашей нелегкой профессии все; значительно больше всех вместе взятых нынешних ниспровергателей — громких, самоуверенных и... пустых.
Дай мне Бог хоть когда-нибудь иметь право сказать о своей работе, что я пропел ее. Может, и поверю тогда, что жизнь свою прожил не зря...
* * *
В числе слагаемых полководческого гения есть еще одно, не отмеченное, насколько мне известно, в исследованиях, посвященных полководцам. Это слагаемое — скорее из области эстетической, нежели военной. И заключено оно во внутреннем ощущении ритма. Да, да, — ритма боя, военной операции, целой кампании, наконец.
Об этом очень точно сказал Суворов: «Секунда решает битву, минута — кампанию, а час — судьбу государства».
* * *
В Зощенко — найти авторскую тайну. Она часто им самим старательно зашифрована. Рассказ «Пассажир», казалось бы, о безобразиях на железнодорожном транспорте. Там, в самом деле, тема эта есть. Но Зощенко не призывает нас навести порядок на железных дорогах! У него иное, более глубинное: едем, не зная куда и зачем.
Зачем герой отправился в Москву? Приехал и не увидел ее, проболтался на вокзале и отправился далее в Ленинград, там тоже ничего не увидел и не понял. И поплелся обратно восвояси.
Путь в никуда — символическое обозначение жизни нашей...
* * *
Как нас учили классики марксизма, бытие вне времени есть такая же величайшая бессмыслица, как бытие вне пространства. На тему взаимосвязи времени и пространства защищено несметное количество трактатов, в том числе и по искусствоведению.
А народ знал это давным-давно. В Древней Руси слово «место» означало и пространство и время (!).
* * *
Мы так привыкли говорить о чистоте и ясности народного творчества, что воспринимаем его простоту и непритязательность уже механически, считая это наиболее характерными чертами фольклора. И за этим стереотипом не замечаем, как сложно порой может быть структурное мышление в фольклоре, какими неожиданными приемами пользуются безымянные народные авторы.
Вот пример — присказка из сказки «Сучье рождение»:
«Засказывается сказка, разливается по печи кашка; сквозь печь капнуло, в горшок ляпнуло; течи, потечи, идет добрый молодец из-за печи на свинье в седле, топором подпоясался, ноги за поясом; квашня старуху месит. Я ей сказал: спорынья в старуху! Она как схватит из-за лопаты печь, меня печью хлесть; я побежал через портки, приступок и изорвал».
Классический пример алогизма, доведенного до абсурда, — да еще в народном творчестве!
Чудо!
А образы, образы какие в сказке! — «Поганое-Поганище, сучье рождение».
А мы твердим постоянно — ясность, простота...
Эта черта фольклора — стремление к абсурдности — есть и у Гоголя. Особенно — в «Вечерах...». Там Гоголь особенно приблизился к фольклорным истокам.
Вспомните Пацюка: «Сначала он жил, как настоящий запорожец: ничего не работал, спал три четверти дня, ел за шестерых косарей и выпивал за одним разом почти по целому ведру».
Вот она, степень комического преувеличения, доведенного до абсурда!
А истоки этой образности — фольклорные.
* * *
Смотрел свое интервью по телевидению. Лучше бы я его не видел. Вроде все было нормально. Но увидел я нечто такое о себе, о чем не догадывался.
Во-первых, возраст. По моим фотографиям, которых много появилось в последние годы, ничего понять нельзя. Фотография — застывшая маска, потом ретушь — «правка» фотографа, сознательно «улучшающего» объект фотографирования. А тут кинопленка, все в движении. И очень крупный план — никуда не денешься, все как на ладони. Да, тяжелое бремя — созерцание своего, мягко скажем, «солидного» возраста.
И потом то, что появилось, очевидно, случайно (так я утешаю себя), — некий назидательный тон. Это встревожило меня больше всего. Очень боюсь оказаться в положении тех моих коллег, которые любят устраивать по телевидению двухчасовые интервью, где высказываются о чем угодно — о политике, географии, об эстраде. Обязательно об эстраде — почему-то это стало нормой в подобных интервью: наверное, движет ими желание доказать, что они еще не отстали от жизни (разговор идет на огромной аудитории, которая эстраду знает и любит).
Я, слава Богу, не пришел еще к этой тематической всеядности, но... Но назидательность, даже снисходительность какая-то, меня смутила, когда я смотрел свое интервью. Хотя «зажат» я, тем не менее, был. На съемке мне казалось, что я раскован, и мне это очень нравилось — этакая телелихость. А на деле — совсем противоположное...
Пленка безжалостна — она всегда объективна. Это документ, с которым не поспоришь. Словом, не понравился я себе. И встревожился. А звонков было много — до ночи звонили, поздравляли, говорили, что все прекрасно.
И чем больше было звонков, тем печальнее мне было — я-то ведь тоже видел...
* * *
На экранчиках — точки, цифры, зеленые зигзагообразные линии. Теперь, на неопределенное время, это — я. Ритм моего сердца, дыхание, даже эмоции — все фиксируется новейшей медицинской техникой. Странно и непривычно воспринимать себя разъятым и расшифрованным цифрами, точками, линиями. Все-таки считаешь себя чем-то целостным, где все существует слитно и согласованно подчинено воле. А тут неожиданно видишь себя со стороны и понимаешь, к собственному удивлению, что аппаратура фиксирует объективно и точно все твои «движения души».
Пока я лежал и думал о пустяках, экраны хранили олимпийское спокойствие, отмечая все, что происходит со мной. Но стоило мне вспомнить о недавнем неприятном случае, и стрелка на одном из экранов забилась и поползла вверх, а на другом экране упала, как подкошенная, на ноль.
«Лежите спокойно, постарайтесь не волноваться», — мгновенно отреагировал врач, внимательно следя за экранами. А я начал испытывать некий мистический ужас перед этими всезнающими и всевидящими механизмами.
Да, в больнице меняешься быстро — «на воле» я бы развеселился, глядя на себя, «разъятого» по частям. А здесь чувствуешь себя беспомощным перед аппаратурой, врачами, неумолимым белым цветом. Он преследует тебя повсюду: стены, двери, халаты, бинты, вата.
Единственная отрада — можно позвонить домой, услышать голоса моих Ежиков (они тоже больны и сидят дома). Милые мои, хорошие, родные. «Как ты там?» — слышу сочувствующие голоса в телефонной трубке. Отвечаю, что все хорошо. Не могу же я рассказать, как мне меня показали — вот твое сердце, вот твое дыхание, а вот — эмоции. Ведь для Ежиков я пока что собран в единый образ.
Больше не стану глядеть на экраны во время обследований, не хочу видеть себя в цифрах, точках и тире.
* * *
Мы часто пытаемся ограничить свое воображение определенными рамками. В данном случае — сценарным «ходом». Может, так легче представляется творческий процесс — четко ограничить берега, в которых спокойно и размеренно будет течь река подсознания. Здесь вступают какие-то ограничительные, тормозные движения — так, нам кажется, легче построить пьесу, сценарий, либретто. Но ведь подсознание — тайна, о которой так хорошо говорили и И. П. Павлов, и К. С. Станиславский: о могучей силе, запрятанной в человеческой психике, заложенной в нас природой.
И по сей день никакие институты мозга не могут объяснить тайну подсознания — тот атомный реактор, в котором кипят, переплавляются, бурлят самые различные, парадоксальные впечатления, эмоции, ощущения, чтобы в конце этого сложного процесса выплавить мысль или волевое решение.
В подсознании мы отрываемся от привычного, будничного, что оковывает нас ежедневно, ежечасно, тисками на горле сдерживает фантазию.
Погрузившись в подсознание, мы соприкасаемся с иными ритмами. Мы улетаем в те — неведомые — дали, в которых витает наша мечта, вступает в ритмическую основу Космоса, наполняясь силой его.
Вспомните: Маяковский проснулся ночью, как от удара, почуяв рождение удивительных по образности строк:
Тело твое
буду беречь и любить,
как солдат, обрубленный войною,
ненужный, ничей,
бережет
свою единственную ногу.
То был сигнал из Космоса, в соприкосновение с которым вошло подсознание поэта. Сознание в этот момент не руководило им — он сам вспоминал, как, проснувшись, пытался понять, что это за «единственная нога», которую он записал обугленной спичкой на папиросной коробке.
...Не надо спешить выстраивать схему.
Схема, конечно, дисциплинирует, собирает разрозненные куски воедино. Но — и ограничивает, останавливает. Схема — определенные рамки, за границами которых все уже «воспрещено».
А может, как раз там, за рамками, и начинается настоящее? А ты уже ограничил себя, уже произнес себе «стоп»!
Тем более это опасно, когда речь идет о музыке. Здесь все непредсказуемо: все — в динамике, и остановить — невозможно.
«Музыка движется», — сказал Б. В. Асафьев. И все, что приходит в соприкосновение с ней, приобретает ту же силу движения — вечно живого, неостановимого процесса.
Отсюда у меня — нелюбовь к схемам. И влечение к тому, что рождено настроением, никаким схемам не поддающимся...
Соприкосновение с Космосом
Промелькнуло сообщение: американские врачи обследовали более тысячи людей, у которых была зафиксирована клиническая смерть. Большинство из вернувшихся в жизнь рассказывали одно и то же. Какая-то могучая сила влекла их по длинному коридору, в конце которого сиял свет. И было им легко и радостно стремиться к яркому свету. А потом все внезапно ломалось, летело в пропасть и — исчезало. Они теряли ощущение абсолютной невесомости, взамен приходила телесная тяжесть, неподвижность.
Очевидно, в этот миг у них снова начинало биться сердце и они возвращались к жизни. По свидетельству возвращенных из небытия, радости им это не доставило...
А одна молодая женщина в документальном фильме «По ту сторону жизни», прошедшая через клиническую смерть, рассказывала, как вдруг стало ей легко-легко, она воспарила над собственным телом и летала над ним, и видела свое тело распростертым на земле. А потом полетела по темному коридору туда, где виднелся свет в окне, и стремилась в этом прозрачном полете к свету, манившему ее. А потом вылетела из темного коридора в светлую сказочную страну и летела над ней свободно, без всяких усилий, и какие-то люди в белом ласково провожали ее. Никогда еще в жизни своей не была она так счастлива, как в эти минуты. И вдруг — тяжелый удар, темнота, все пропало, и она стала различать потолок палаты, смутные лица врачей, склонившихся над ней. Исчезла радость, испарилась легкость, все опять стало обычным, земным, тяжелым и унылым. Врачам удалось вернуть ее к жизни...
Почти все, кого вернули с того света, утверждают одно и то же: был темный коридор или тоннель, по которому они летели. Но в конце коридора брезжил свет, и кто-то в белом звал их (Ангел? Бог?).
И стремились они к этому свету, к тому, кто звал их, и радостно становилось им от ожидания высшего блаженства, счастья неземного.
Что это, как не жизнь человеческого духа — когда физика тела уже отмерла, а душа отправилась ввысь, в Космос (или вернулась?).
Жизнь не кончается с физической смертью, а может, только начинается, изменив лишь форму существования. И каждый из нас поистине бессмертен. И, уйдя, увидит свой свет в конце коридора и с радостью встретит освобождение от земной юдоли.
(Помните, у Толстого, князь Андрей: «Я умер — я проснулся. Да, смерть — пробуждение».)
Мы привыкли считать: прощание с жизнью — самый тяжелый час, какой только может быть у каждого человека. Мы уходим в темноту, в небытие. Уходим от земных радостей, от родных людей, навсегда теряя их, теряя дом, превращаясь в прах, тлен, исчезая навсегда.
Но есть надежда: человек не умирает, а уходит — в иной мир. Улетает в космические дали и стремится ввысь, не отягощенный земным притяжением и тягостными проблемами... Смерти нет.
Есть переход в иное состояние, продолжающее земную жизнь, «жизнь человеческого духа». Религия все это предсказывала много веков назад. Но мы с яростным упорством боролись с этим учением, и только теперь, на пороге второго тысячелетия, даже мы приходим к тому же.
Счастье для каждого, кто поверит: он — бессмертен, как бессмертны и близкие его. Какая благодать, какая сила великая вливается в душу мою от сознания своей бесконечности, от веры в то, что в конце длинного темного коридора все-таки блеснут лучи света!
* * *
И вспоминается мне «Эмпирия» Иеронима Босха, в которой — тот же тоннель или громадная сферическая труба, куда улетают души людские. В даль, к сияющему свету. Я не знаю жизни великого провидца Возрождения, не знаю, случилось ли с ним то же, что с людьми, ушедшими в мир иной и вернувшимися на землю, но у него в картине запечатлено то же, что и в рассказах людей, умерших и воскресших.
Помню, с каким трепетом, почти ужасом, стоял я в мадридском музее Прадо и на другой день — в королевском замке Эскориал у картин Босха, человека, соприкасавшегося (я уверен) с Космосом и оттуда, из таинственного антимира, смотревшего на нас, на уродливую и страшную жизнь земную, наполненную монстрами, человекоподобными полузверями. И на тех же картинах — в дали, в недосягаемости для землян — стройные конусы космических кораблей, прибывших из иных миров...
А в «Эмпирии» стремятся и стремятся по сферическому тоннелю к свету души людские...
* * *
Осень 1990 года. Американцы сообщили: они взвесили... человеческую душу. И вес ее крошечный — от двух с половиной до шести с половиной граммов.
Это уж совсем неожиданно: значит, душа — материальна, если она даже вес имеет! А мы упрямо твердили, что это мистика, шаманство, мракобесие.
Американские врачи пришли к выводу: после физической смерти душа человеку продолжает жить и отправляется в иной мир (в религии — ад? чистилище? рай?).
* * *
В древности к смерти относились философски. «Умереть» у древних называлось — присоединиться к большинству. А Цицерон утверждал, что смерти желать не надо, но не следует и беспокоиться о ней...
* * *
Умирающий Булгаков — за несколько дней до смерти — сказал неожиданно: «Может быть, это и правильно... Что я мог бы написать после «Мастера»?..»
Врач, он знал, что умирает, и принимал это как естественное завершение своего пути. Не только жизненного, но — что важнее — творческого, провидчески предсказав, что «Мастер...» станет вершиной его творчества, навсегда оставив в истории мировой культуры имя его создателя.
И еще — накануне смерти: «Мне мерещится иногда, что смерть — продолжение жизни. Мы только не можем себе представить, как это происходит. Но как-то происходит...»
И — в продолжение этого — рассказ Е. С. Булгаковой: «Когда он уже умер, глаза его вдруг широко открылись — и свет, свет лился из них. Он смотрел прямо вверх перед собой — и видел, видел что-то, я уверена (и все, кто был здесь, подтверждали потом это). Это было прекрасно...»
Он видел тот свет в конце коридора, что манил всех, прошедших клиническую смерть. Он летел в Космос, где ждало его освобождение от страданий (он с лихвой испытал их — на десять жизней хватило бы того, что вынес он — гений! — в этом мире).
* * *
Жизнь вечная — это все пока неизвестное нам. Но это — есть. Наше продолжение, наше бессмертие.
И я понял, что тоже увижу в конце коридора свет. И стало легко и совсем не страшно думать о смерти.
Я теперь верю в булгаковское: смерть — продолжение жизни.
Предчувствие
Великие души не могут не иметь великого предчувствия. Так уверял Достоевский — вечно мятущаяся душа.
Предчувствием были наделены гениальные писатели, поэты-провидцы. Пушкин в зимней морозной дуэли и смерти Ленского с такой точностью предсказал промозглую Черную речку и погибающего поэта, падающего в снег, что читать главу из «Евгения Онегина» без содрогания невозможно, — так все ясно увидено, вплоть до деталей. Так же, как и эпиграф из Петрарки к VI главе: «Там, где дни облачны и кратки, Родится племя, которому умирать не больно».
И вспоминаешь фантастическую выдержку Поэта, его мужество в последние дни жизни, когда, смертельно раненный, он превозмогал такую чудовищную боль, что даже лейб-медик Арендт сказал, потрясенный: «Я был в тридцати сражениях, я видел много умирающих, но мало видел подобного».
Пушкин был из этого мужественного племени, «которому умирать не больно», которое и смерть встречало достойно, по-рыцарски. Он знал, что конец его близок, и готовился к нему без страха. В воспоминаниях тех, кто был у постели Поэта, встречаются строфы из VI главы «Онегина» — у них невольно возникали ассоциации с той трагедией, что творилась на их глазах, и той, что была за несколько лет до этого описана умирающим гением:
В сем сердце билось вдохновенье,
Вражда, надежда и любовь,
Играла жизнь, кипела кровь, —
Теперь, как в доме опустелом,
Все в нем и тихо и темно...
* * *
Последняя встреча двух Александров Сергеевичей — Пушкина и Грибоедова — на крутой горной дороге, по пути в Арзрум:
«...Несколько грузин сопровождали арбу. «Откуда вы?» — спросил я их. «Из Тегерана». — «Что вы везете?» — «Грибоеда». Это было тело убитого Грибоедова, которое препровождали в Тифлис».
И далее следует удивительное размышление о судьбе поэта и предчувствиях, полностью оправдавшихся. Пушкин пишет: «Я расстался с ним в прошлом году в Петербурге, пред отъездом его в Персию. Он был печален и имел странные предчувствия (выделено мной, — И. Ш.). Я было хотел его успокоить он мне сказал: «Вы еще не знаете этих людей: вы увидите, что дело дойдет до ножей.» ...А пророческие слова Грибоедова сбылись».
Но чудится здесь иное: Пушкин не случайно поминает «странные предчувствия» и «пророческие слова» Грибоедова. Может, во встрече со странствующим телом Грибоедова родилось пушкинское предчувствие собственных посмертных странствий? В неожиданной встрече с гробом Грибоедова и печальных размышлениях Пушкина по поводу странника, погибшего насильственной смертью и не нашедшего тогда еще последнего приюта, чудится мне его мрачное предчувствие: грядущая гибель от «белого человека» — сбывшееся предсказание гадалки, царский запрет хоронить Поэта в Петербурге и дальняя печальная дорога, по которой сквозь пургу, в непроглядную ночь, жандармы везут «опальное» тело, чтобы тайком похоронить его вдали от столицы, в псковской глуши.
«Мы ленивы и нелюбопытны», — скажет Пушкин, вспоминая свою встречу с телом Грибоедова. И жестоки — хотелось добавить.
* * *
Лермонтов последний раз прибыл в Пятигорск за два месяца до гибели, в середине мая 1841 года, и поселился на окраине Пятигорска, в доме у подножия Машука. Но незадолго до этого он уже поселил Печорина в таком же доме и на том же месте: «Вчера я приехал в Пятигорск, нанял квартиру на краю города, на самом высоком месте, у подошвы Машука: во время грозы облака будут спускаться до моей кровли...
...Внизу передо мною пестреет чистенький, новенький городок, шумят целебные ключи, шумит разноязычная толпа...»
А вот описание одного из соседей Лермонтова, гусарского офицера А. И. Арнольди: «Мы скоро нашли себе удобную квартиру в доме коменданта Уманова, у подошвы Машука... С галереи открывается великолепный вид: здесь Пятигорск лежал как бы у ног наших, и взором можно было окинуть огромное пространство, по которому десятками рукавов бежал Подкумок».
Сравните оба текста — будто вид из одного и того же окна...
Те, кто знают Пятигорск, домик Лермонтова, те, кто ходили по саду, сидели на крыльце, где Поэт любил писать, бродили по окрестным улицам, не сомневаются: прежде чем Лермонтов поселился здесь, на улице Нагорной, он все это уже увидел в собственном воображении, когда писал несравненного своего «Героя нашего времени». Предчувствие его не обмануло.
К несчастью, оно оказалось пророческим и в более важных событиях судьбы Поэта. Он настолько точно и зримо описал историю дуэли Печорина — попойку кавказских офицеров, ссору с приятелем и кровавую дуэль в горах, в ущелье, где шумит горная речка, — что, когда в который раз погружаешься в тревожную атмосферу романа, не покидает ощущение участия в событиях.
И в этих трагических строках явственно ощущается предчувствие Поэтом конца собственной жизни, до которого от создания романа его отделяло совсем немного — менее двух лет.
Размышления Печорина о близкой смерти в ночь накануне дуэли, его мужественное и даже ироническое поведение, безукоризненное владение собой перед самой дуэлью и, вместе с тем, тревога, которая ощутима в этих страницах, — это сам Лермонтов. Его предвидение неизбежного.
«Два часа ночи... не спится... А надо бы заснуть, чтоб завтра рука не дрожала... что, если его счастье перетянет? если моя звезда, наконец, мне изменит?.. И не мудрено: она так долго служила верно моим прихотям; на небесах не более постоянства, чем на земле.
...Пробегаю в памяти все мое прошедшее и спрашиваю себя невольно: зачем я жил? для какой цели я родился?.. А, верно, она существовала, и, верно, было мне назначение высокое, потому что я чувствую в душе моей силы необъятные...»
Кто это говорит — Печорин или сам Лермонтов? Кому принадлежат эти мысли накануне дуэли?
Я уверен — Лермонтов вел себя так же мужественно и думал почти о том же в последнюю свою ночь. Хотя нигде и никем это не записано.
Совпадения удивительные, даже в деталях. Печорин утром перед дуэлью принимает освежающую ванну: «Погружаясь в холодный кипяток нарзана, я чувствовал, как телесные и душевные силы мои возвращались». И Лермонтов накануне поединка, 14 июля, отправляется в Железноводск принимать ванны и на следующий день в 5 часов возвращается в Пятигорск — к подножию Машука, на дуэль.
И еще — нечто труднообъяснимое, но чрезвычайно дорогое для меня. Помните то утро, когда Печорин с секундантом направляется на дуэль:
«Я не помню утра более голубого и свежего! Солнце едва выказалось из-за зеленых вершин, и слияние первой теплоты его лучей с умирающей прохладой ночи наводило на все чувства какое-то сладкое томление...
...Как любопытно всматривался я в каждую росинку, трепещущую на широком листке виноградном и отражавшую миллионы радужных лучей! как жадно взор мой старался проникнуть в дымную даль!»
Что это? Счастье соприкосновения с природой? Или же иное — сопричастность с Вечностью, поднимающая силы душевные до высот великих?
И — Лермонтов: за несколько минут до дуэли и до смерти своей он увлеченно рассказывает секунданту и другу Мартынова и своему приятелю (!) М. П. Глебову, что замыслил написать два больших романа, действие которых охватит многие десятилетия и даст жизнь русского народа на широком историческом материале. А в эти минуты в ствол крупнокалиберного пистолета системы Кухенрейтера уже забивается кусок свинца, направленного в сердце Поэта...
Эти два эпизода — один — плод фантазии Лермонтова, другой — бывший в действительности, — говорят об одном и том же: о великой силе души, воспарившей к звездам. Души, лишенной страха за собственную жизнь, соприкоснувшейся с Вечным.
Совпадение жизненных ситуаций Лермонтова с уже состоявшимся «Героем нашего времени» — на каждом шагу. И последовавшая за дуэлью бешеная скачка Печорина вслед за уезжающей Верой по дороге к Пятигорску — еще одно неосознанное предчувствие Лермонтова, выведшее Печорина к собственному последнему земному пристанищу.
Здесь появляется мотив реки Подкумок, вдоль которой скачет Печорин. Подкумку в районе Кисловодска отдает свои воды Ольховка, на берегу которой стрелялись герои романа. Подкумок течет по долине мимо Ессентуков к Пятигорску.
Тема Пятигорска, где начинается действие романа, опять возникает в финале «Княжны Мери», в один из самых трагических моментов: Печорин за ускользающим своим счастьем стремится туда, но счастья не достигает, ибо Пятигорск — тема будущего. Так на многоточии заканчивается повествование, полное скрытых, полуосознанных предчувствий.
Пятигорск еще войдет в лермонтовскую судьбу своим жестоким финалом...
Последняя дуэль Лермонтова состоялась недалеко от ущелья, куда автор отправил своих героев. У подножия горы Машук, в таком же окружении кавказских офицеров, прогремел выстрел, оборвавший жизнь гения. От событий, предсказанных в «Герое нашего времени», эту дуэль отделяли всего лишь полтора года и несколько десятков километров...
Перечитываю любимого мною «Героя...», и меня не покидает странное ощущение: Лермонтов знал — ему предстоит снова отправиться на «окровавленный войной Кавказ» и в блистательный Петербург с Кавказа он уже не вернется. Он оттягивал отъезд, сколько мог. Е. П. Ростопчина вспоминала: «Лермонтову очень не хотелось ехать, у него были всякого рода дурные предчувствия» (выделено мной, — И. Ш.).
Дурные предчувствия могли быть связаны только с одним: Поэт предвидел, что на склонах любимых им с детства «синих гор Кавказа» настигнет его злая пуля. И может быть, вспоминал свое же:
В полдневный жар, в долине Дагестана,
С свинцом в груди лежал недвижим я;
Глубокая еще дымилась рана,
По капле кровь точилася моя.
* * *
Я уверен: поэты соприкасаются с Космосом, черпают оттуда силы свои, таинство могучего творчества. И может быть, из Космоса получают они сигналы о будущем, предначертанном для каждого смертного, и, подчиняясь космической силе, не сопротивляются зову судьбы, а принимают его как данность.
* * *
Поэты умели разговаривать со звездами.
Пушкин, Лермонтов, Блок. Бог наделил их этим сокровенным даром. Им обладал и Булгаков, творец космической фантасмагории. Они и ушли к звездам, в Космос, который звал их к себе.
* * *
Пушкин — незадолго до смерти — полетел по книжным полкам, выше и выше.
Это душа поэта воспарила к звездам, и, может, кто-то в конце темного коридора уже звал его, суля избавление от всего ужаса земного, в который он был погружен в последние месяцы своей жизни...
И те, кто был рядом с умирающим Пушкиным, рассказали нам, какой благостный свет разлился по лицу поэта, когда настигла его физическая смерть.
«Какая-то глубокая, удивительная мысль на нем развивалась, что-то похожее на видение, на какое-то полное, глубокое, удовольствованное знание. Всматриваясь в него, мне все хотелось у него спросить: «Что видишь, друг?» ...В эту минуту, можно сказать, я видел самое смерть, божественно тайную, смерть без покрывала. ...Никогда на его лице не видел я выражения такой глубокой, величественной, торжественной мысли». Так писал Жуковский. И — почти дословно — повторил он в стихах, написанных у гроба Пушкина:
...Мнилося мне, что ему
В этот миг предстояло как будто какое виденье,
Что-то сбывалось над ним, и спросить мне хотелось:
что видишь?
* * *
И вот — Гоголь.
Когда я представляю себе, как он проснулся от летаргического сна, попробовал повернуться, позвать людей и понял, что лежит в гробу, зарыт в землю, — страшный крик его чудится мне в ночи. Он кричал, звал в нелепой, фантастической надежде — может, услышат, откроют, спасут.
И самое невероятное — всю фантасмагорию своей смерти он предчувствовал. Мало того — записал в завещании:
«Завещаю тела моего не погребать до тех пор, пока не покажутся явные признаки разложения. Упоминаю об этом потому, что уже во время самой болезни находили на меня минуты жизненного онемения, сердце и пульс переставали биться».
Читать это и сегодня жутко — хотя уже полтора века отделяют нас от страшного несчастья. Не понять людей, окружавших его, — ведь он же предупреждал их, зная наперед, что произойдет с ним! Да, видно, равнодушие — продукт не только нашего времени. Оно всегда правило свой сатанинский бал на Руси...
* * *
И наконец, у Маяковского — какое точное предчувствие собственной гибели — диву даешься.
Тема самоубийства шла через все творчество Поэта. Она возникает тревожным лейтмотивом еще во «Флейте-позвоночнике»:
Все чаще думаю —
не поставить ли лучше
точку пули в своем конце...
А есть и прямые предчувствия — даже временные.
И задолго до трагического 14 апреля 1930 года — провидческие строки:
Я с сердцем ни разу до мая
не дожил,
А в прожитой жизни
лишь сотый апрель есть...
* * *
У Наполеона было фантастически точное предчувствие. В одной из школьных (!) тетрадей (1788 года!) есть запись: «Святая Елена, маленький остров».
От этой записи, сделанной детской рукой, до печального острова Святой Елены, где он окончил свой жизненный путь, его отделяло почти 30 лет...
Пушкинские рисунки
Есть нечто притягательное в рисунках Пушкина — они зовут, не дают покоя.
Удивительное единение поэзии и конкретного видения, поэзии, воплотившейся в зримые образы, созданные той же рукой, что и несравненные стихи.
И я обращаюсь к ним — все снова и снова. В который раз смотрю на черновики рукописей поэта: в них вмонтированы — более точного слова не нахожу — органически и неразделимо рисунки поэта. И если в поэзии пушкинское творчество — непрерывный поиск, непрекращающийся — до последних минут — путь к самопознанию, то здесь, в рисунках — то же неукротимое желание до конца расшифровать Человека. Душу его, то, что каждый бережет от других, а может, и от себя...
Его рука — стремительный, небрежный и вместе с тем очень точный рисунок. Какие-то струящиеся линии.
Все — набросок, даже не эскиз, а что-то неуловимое, какое-то на лету схваченное мгновение.
Впечатление, мелькнувшее в «запоминающей машине» памяти гения — и, казалось бы, исчезнувшее. Но, к счастью, оставшееся навсегда запечатленным этой чуткой, изящной и явно — нетерпеливой — рукой.
А главное — ощущение полета.
В линиях, в незаконченности.
Ощущение стремительности.
Мгновенности.
Неуловимости.
Легкости.
Даже — невесомости (настолько ощущаешь за каждой небрежно набросанной линией эту оторванность от быта).
Он рисует не результат, а как бы воспроизводит творческий процесс — образ не в его завершенном виде, а восстанавливая и фиксируя в рисунке «ход», динамику мышления.
Словно мгновенная остановка в пути, какая-то оглядка — и тут же дальше, дальше, к новым берегам, которые зовут, манят, обещают...
Черновики Пушкина. Рабочие тетради.
Целые страницы перемараны, вычеркнуты, иные переписаны, переделаны множество раз. И чуть ли не на каждой странице — рисунки, рисунки...
Чаще всего — портреты в профиль.
Пушкин, по определению Л. Толстого, «думал стихами». Хотелось бы добавить — и пластическими образами. Для него это была единая сфера выражения личности.
Рисовальщик, наделенный редким даром видеть наиболее характерные черты и воплотить это единым штрихом («старайся наблюдать различные предметы»), во множестве рисунков запечатлевший свой собственный облик, без прикрас — таким, каков был и в жизни, — он внимательно относился к своим портретам, написанным другими художниками. И стихотворения «Кипренскому» и «Господину Дау» — свидетельство тому (перечтите их).
Чрезвычайно характерная черта: профили (почти все!) направлены в одну и ту же сторону — справа налево.
Чем объяснить эту пластическую особенность? Почему же Поэт, блистательно владея техникой рисунка, всегда делал портреты-зарисовки, которыми полны его рукописи, лишь в одном ракурсе?
Может, секрет здесь заключается в том, что стремительный бег пушкинского пера слева направо в паузах находил себе как бы противовес, как бы встречную динамику, пластически выраженную в обратном движении рисунков.
Может, в этой пластике Поэт подсознательно творил некий контрапункт, некое диалектическое противоречие собственному поэтическому творчеству (та внутренняя борьба, которая бушевала в душе Поэта)?
Можно лишь строить предположения.
И это — одно из возможных.
...Многочисленные пушкинские автопортреты. Среди них нет похожих по состоянию и настроению — все они разные. Как будто десятки людей — несхожих по строю мыслей, темпераменту, устремлениям — собрались в едином облике, запечатленном Пушкиным в своих портретах.
Это — драгоценные свидетельства глубины пушкинской души. Изменчивой, подверженной различным настроениям, но всегда — стремящейся к высокому...
Автопортреты Пушкина... Вот совсем юный Поэт, вот он в окружении семьи Раевских... Вот зрелый, умудренный... Вот он верхом на лошади, в цилиндре, мчащийся с пикой наперевес в бой (рисунок, документально воспроизводящий описание современниками и им самим кавказской эпопеи Пушкина)...
В пушкинских автопортретах проходит жизнь Поэта, все его возрасты, даже — несостоявшееся его будущее (!). Он изображает себя то восторженным юношей, то — Робеспьером (!).
А то вдруг — глубоким старцем: он изобразил однажды себя таким, каким представлял свою старость, не предполагая, конечно, что этого ему не придется пережить...
И даже... конем! Да, есть автопортрет на черновиках «Андрея Шенье», где Поэт сделал себя конем, но — с бакенбардами и единственным (в профиль) конским глазом, затаенно и вместе с тем озорно (по-пушкински!) глядящим на нас.
А вот и «эскизы разных лиц, замечательных по 14 декабря 1825 года», где Поэт изобразил себя (кстати, в редчайшем ракурсе — не в профиль, а в три четверти) среди профилей декабристов...
И вновь пушкинские профили, где он запечатлен в самых разных состояниях, пристально вглядывающийся во что-то, что находится за пределами «кадра» — нечто невидимое нам...
И — никогда — не улыбающийся!
Пушкин — сама жизнь, радость великого творчества, «солнце русской поэзии» и — без улыбки?
Да, улыбки не найдем ни в одном (!) пушкинском автопортрете.
Невозможно комментировать это. Можно лишь строить догадки. Очевидно, что автопортреты — это долгий (стрелой — через многие годы) рассказ о себе. Рассказ искренний, откровенный и — печальный.
Может, Поэт в автопортретах досказал о себе то, что осталось не до конца высказанным в его стихах?
И рисунки — как и стихи — своеобразная исповедь Пушкина, постоянно исследующего собственную душу?
Один из самых известных пушкинских автопортретов — 1829 года.
Этот профиль расскажет о Поэте больше, чем статьи и исследования о нем...
Пушкин — весь стремление. И в тонкой странной линии носа, придающей ему вид птицы, приготовившейся к полету, — вот-вот взлетит; и в сумбуре волнистых волос; и в резких линиях бакенбард, словно развеваемых порывом ветра.
И самое удивительное — глаза Поэта: он смотрит в сторону, что-то пристально разглядывая.
Что увидел он там, в далях неведомых, доступных только его взору?
Он смотрит куда-то мимо нас, но — странное ощущение! — мне кажется, что смотрит он прямо в мои глаза. И нет силы оторваться от этого гипнотического взгляда, приковавшего к себе всю душу.
Наверное, это самый точный и самый пронзительный по откровению и исповедальности автопортрет.
Он смотрит из своего времени в завтра. В Вечность. В Космос.
...Поэт сам до конца не знал, откуда взялся его «мятежный» род. Точнее — одна из ветвей его.
Семейное предание гласило — от африканского племени, от чернокожих предков царского звания. А может, все намного сложнее и таинственнее, и здесь замешаны иные — астральные — силы?
Может, будущее откроет нам эту тайну Пушкина? Тайну пришествия пушкинского рода на землю...
Ушли, канули в Лету целые поколения. Но навсегда остались в памяти людей те, с кем судьба свела Поэта.
Потому что они оставили след в его жизни, в душе его. А значит — и в творчестве.
Им Поэт посвятил неувядаемые строки своих творений, обессмертив их.
Облик многих из них запечатлел Пушкин и в своих рисунках.
Те, лица которых чертило пушкинское перо в черновиках стихотворений, запечатлены и на полотнах лучших живописцев века. Но если сравнить их, то нетрудно убедиться, что от прекрасных академических портретов веет холодком, официозной парадностью, сквозь которые с трудом можно пробиться к сущности изображаемого лица. А скромные, на скорую руку сделанные рисунки Пушкина всегда очень точно раскрывают тайну личности, глубинную сущность души.
Поэт и здесь — великий сердцевед, читающий, словно открытую книгу, самые сокровенные душевные тайны.
* * *
У Пушкина — идеальное ощущение драматургического начала. И не только в драматургических произведениях, но и в поэмах. Он очень точно понимал слово «действие», видя в нем, наряду со словесным образом, главный инструмент обрисовки характера.
Вспомните: «Глупость же человека оказывается или из его действий, или из его слов. Мазепа действует в моей поэме точь-в-точь, как и в истории…»(Выделено мной, — И. III.).
Лучше и точнее не скажешь.
* * *
Пластическое, пространственное ощущение Пушкина — прямо режиссерское видение. Когда уже был написан «Кавказский пленник», Поэт, вернувшись на Кавказ, как бы заново увидел его и решил, что по первому впечатлению, зафиксированному в юношеской поэме, неверно распределил пластическую образность ее.
Вот письмо Гнедичу от 24 марта 1821 года, где поэт определил свою ошибку:
«...Сцена моей поэмы должна бы находиться на берегах шумного Терека, на границах Грузии, в глухих ущельях Кавказа — я поставил моего героя в однообразных равнинах, где сам прожил два месяца...»
Для него пространство поэмы было заземлено («поставил моего героя в однообразных равнинах»). А «сцена» поэмы, по зрелому размышлению, должна была находиться в ином измерении — в кавказских горах: ущелья, теснины, шумный Терек. Иной пейзаж, более романтичный, был увиден Пушкиным для своей поэмы. Но, увы, поздно — к этому времени поэма была написана и напечатана.
* * *
Тяжело-звонкое скаканье
По потрясенной мостовой.
Это — «Медный всадник».
Здесь удивительно все: и «тяжело-звонкое скаканье», когда в музыкально-пластическом образе физически ощущаешь тяжесть каждого удара бронзовых копыт, неотвратимо приближающихся к тебе. И главная неожиданность этих строк — «по потрясенной мостовой». Потрясенное пространство — это вершина эмоционального сдвига, той степени страха, который иногда объемлет нас во сне, — предчувствие некого космического ужаса, ждущего всех нас.
* * *
Нет, далеко не так однозначен Сальери, как вас учат литературоведы, — злодей, завистник, убийца. А ведь именно ему Пушкин отдал самые проникновенные строки во всей «маленькой трагедии». Ему, а не светлому гению Моцарту!
Ведь это слова Сальери:
...Как некий херувим,
Он несколько занес нам песен райских...
Неожиданные строки! Ведь как беден был бы мир, если бы в него не заносили райских песен те, кому дано пропеть их: Моцарт, Чайковский, Пушкин, Лермонтов, Блок... И дивные эти песни райские — воплощение мировой гармонии, без которой нет и не может быть духовной жизни.
В уста Сальери вкладывает Пушкин самое, пожалуй, лаконичное, точное и пронзительное определение сущности произведения искусства:
...Какая глубина!
Какая смелость и какая стройность!
И наконец, Сальери принадлежит исповедальное признание, тайно всегда живущее в сердце подлинного художника — быть понятым людьми:
... я в сердцах людей
Нашел созвучия своим созданьям.
Кто это говорит? Злодей Сальери или же сам Пушкин, вечно мятущийся в познании бездонной своей души и осознающий двойственность ее, сотканную из противоречий, где Моцарт и Сальери — грани одной бесконечной его личности? И какой из граней Поэт отдает предпочтение — «безумцу и гуляке праздному» Моцарту или же мудрецу и философу Сальери?
И вот загадка, которую Пушкин задал нам: сопоставление двух, казалось бы, взаимоисключающих противоречий, сведенных воедино его вещим пером:
...союз,
Связующий Моцарта и Сальери,
Двух сыновей гармонии.
На сей раз эти слова принадлежат Моцарту...
* * *
Недавно перечитывал «Героя нашего времени» — сцену бури в горах Кавказа. Пытался понять, что меня вдруг забеспокоило в этих любимых с детства страницах лермонтовского романа. Стал вспоминать и наконец вспомнил: конечно! «Капитанская дочка»! Вот что меня звало. Не потому, что я углядел некую похожесть пушкинского пейзажа и лермонтовского. Нет, речь совершенно о другом: о внутреннем ритме событий, рассказанных двумя поэтами, о музыкальности их прозы. В ритмической и мелодической основе почудилась некая близость лермонтовского образного строя пушкинскому. Сравните сами:
«Капитанская дочка».
... — Что ж за беда!
— А видишь там что? (Ямщик указал кнутом на восток.)
— Я ничего не вижу, кроме белой степи да ясного неба.
— А вон — вон: это облачко.
Я увидел в самом деле на краю неба белое облачко, которое принял было сперва за отдаленный холмик. Ямщик изъяснил мне, что облачко предвещало буран.
...Ветер между тем час от часу становился все сильнее. Облачко обратилось в белую тучу, которая тяжело подымалась, росла и постепенно облегала небо. Пошел мелкий снег — и вдруг повалил хлопьями. Ветер завыл; сделалась метель. В одно мгновение темное небо смешалось с снежных морем. Все исчезло. «Ну, барин, — закричал ямщик, — беда: буран!»...
Я выглянул из кибитки: все было мрак и вихорь. Ветер выл с такой свирепой выразительностию, что казался одушевленным; снег засыпал меня и Савельича; лошади шли шагом — и скоро стали...
«Герой нашего времени».
... — Что ж это? — спросил я.
— Гуд-гора.
— Ну так что ж?
— Посмотрите, как курится.
И в самом деле, Гуд-гора курилась; по бокам ее ползали легкие струйки облаков, а на вершине лежала черная туча, такая черная, что на темном небе она казалась пятном.
...пахнул сырой, холодный ветер, ущелье загудело и пошел мелкий дождь. Едва я успел накинуть бурку, как повалил снег. Я с благоговением посмотрел на штабс-капитана...
...Между тем тучи спустились, повалил град, снег; ветер, врываясь в ущелья, ревел, свистал, как Соловей-разбойник, и скоро каменный крест скрылся в тумане, которого волны, одна другой гуще и теснее, набегали с востока...
...Лошади измучились, мы продрогли; метель гудела сильнее и сильнее, точно наша родимая, северная...
...— Плохо! — говорил штабс-капитан, — посмотрите, кругом ничего не видно, только туман да снег...
...Извозчики с криком и бранью колотили лошадей, которые фыркали, упирались и не хотели ни за что в свете тронуться с места, несмотря на красноречие кнутов.
Для меня какая-то тайна связывает эти два отрывка.
Чувствую — связь между ними есть. Глубинная, сущностная связь, которую не объяснишь, но явно ощущаешь: ритмическая, музыкальная основа, воплощенная в пластических образах.
«Молюсь дымящейся земле...»
Вот они — привольные русские дали. Но не те безадресные, «дежурные», а конкретное место, может, и не очень заметное на карте (а точнее — просто не существующее на больших картах России) — Константинове…
Я стою на высоком берегу Оки, пораженный тем, что вижу. Знаю — отныне запомню сегодняшний день на всю жизнь.
Кто хоть раз побывал здесь, в этом и сегодня затерянном среди степей и лесов заповедном краю, тот никогда не забудет удивительного зрелища, открывающегося с высокого берега реки.
Там, за спокойной равнинной Окою, такие бесконечные дали — дух захватывает!
Вижу — на высоком берегу Оки стоит-красуется церковь старинная. Издалека видны золотые кресты ее куполов, сверкающих под солнцем, да колоколенка стройная...
И дом есенинской семьи, сработанный руками русских деревенских умельцев — деда и отца Поэта...
И красивое, с широкой улицей село, выходящее прямо к реке, к высокому берегу ее.
И небо — синее-синее, ласковое, теплое...
Рязанская земля — особая. Она должна рождать певцов и поэтов.
Константиновская природа не могла не дать России Есенина — настолько все здесь слито воедино: и небо, и лес, и река, и поле, и церковь, и чистейший воздух, который с наслаждением пьешь, как родниковую воду, — без конца...
Я скажу: «Не надо рая,
Дайте родину мою».
Здесь, в Константинове, я понял, что он имел полное право так сказать: его родина и в самом деле — рай на земле.
Песенная, поэтическая земля.
Когда засыпаешь, лежа на траве, надышавшись вольного ветра есенинских просторов, чудится, что вновь прилетает из далей далеких — откуда-то из-за Оки — народная песня.
Такая же простая, как земля, родившая ее. И такая же вечная.
И звучат стихи, рожденные здесь, от ясных песен, и значит, таких же вечных, как они:
Гой ты, Русь, моя родная,
Хаты — в ризах образа...
Не видать конца и края —
Только синь сосет глаза.
Стихи, пришедшие из песни и в песню превратившиеся, — вот удивительное единство есенинской поэзии. В этом единении — нравственное, духовное очищение. И вечное — то, что было всегда в сердцах русских людей и о чем так просто и точно сказал народный поэт России: «Дайте родину мою...»
Знаем ли мы хорошо Есенина?
И да, и нет.
Но вот — Есенин духовный. Все его юное творчество (а духовные стихи он писал почти мальчиком) пронизано светом веры, светом надежды.
Он с детства сердцем воспринял ту духовную сущность, что всегда жила в народе. Деревенский паренек, воспитанный на песнях народных, праздниках церковных, на молитвах, что творили старшие в семье, на благостном песнопении в полумраке церкви, освещенной немногими свечами...
И он вобрал все это сердцем своим и воплотил в удивительном образном строе, где русская природа, повседневный деревенский быт и стремление к Вечности сплавлены в таком органичном, таком естественном соединении, что просто диву даешься — откуда у пятнадцатилетнего деревенского мальчика это ощущение сущности бытия!
Вижу: из темноты выплывают, постепенно обретая контуры и цвет, плавно сменяя одна другую, картины Нестерова.
В несравненных его духовных созданиях, в которых присутствие святых сил властно преображает все: и русскую природу, и обычных людей, и зверей — все становится иным под знаком соприкосновения с Вечностью.
Нестеровские отроки близки юношеской поэзии Есенина.
Поэтому спектакль, построенный на есенинских стихах и народных песнях, должен сопровождаться творениями Нестерова, сливаясь в едином, звукозрительном образе...
И песнями.
Народными песнями, в которых отражены и поклонение божественному, и церковные праздники: Святки, Рождество, Крещение, Святки весенние — словом, все основные крестьянские праздники, которые соблюдались испокон веку на Руси...
А есенинские стихи будут звучать и звучать:
В золоченой хате
Смотрит божья мати
В небо.
А сыночек маленький
Просит на завалинке
Хлеба...
Ворочалась к хате
Пречистая мати,
Сына нету.
Собрала котомку
И пошла сторонкой
По свету.
И возникнут опять — поля, дали, небо в облаках...
В полях гуляет ветер вольный, колышет, волнует рожь, купаются в небе птичьи стаи, возвращаются домой из дальних южных стран...
Осанна в вышних!
Холмы поют про рай.
И в том раю я вижу
Тебя, мой отчий край.
Плывет над полями журавлиный клин... Слышно ячанье лебедей, доносящееся из небесных просторов...
Ветер гуляет в степи, и вольно, свободно дышится под чистым небом...
И вновь приближается, звенит, радуется песня...
Народ родил их в горестях и бедах — голоде, смерти близких, в горниле войн.
Он создал песни и в великой радости ощущения бытия: восхода солнца над лесами да полями, рождения ребенка, его первой — святой — улыбки.
Он создал песни и в великой радости любви, дающей человеку силу неизбывную, устремляя душу к высотам горним, к полету...
Протяжно поют далекие светлые голоса...
Но когда отзвучит песня и, удаляясь, замрет последняя ее нота — услышим мы удивительные стихи, пришедшие будто из Космоса:
Но тот, кто мыслил Девой,
Взойдет в корабль звезды.
* * *
Есть такое заповедное место на земле — Белый Городок. Далеко не на всех географических картах можно найти его: маленькая точка на карте Калининской (Тверской) области в верховьях Волги.
Там нет крупных промышленных предприятий, шума и суеты, такого скопления людей и неисчислимого скопища проблем.
Верховье Волги. Здесь она еще не очень широкая, спокойная, даже какая-то лиричная. Волга — слава и гордость России, великая река, неторопливо несущая свои воды к далекому серо-голубому Каспию...
И странно мне. Я родился на берегах Каспия, в сверкании его солнечных далей прошли детство и отрочество. Казалось бы, туда, на просторы южного моря, и должно стремиться мое неспокойное сердце... А стремится оно к старинному русскому посаду, к неброской русской природе, возвращающей моей душе истраченные в ненужной порой московской суете силы...
«Я много в разных странах плутал...» Подумать только — полмира исколесил. И везде — спектакли, концерты, встречи, пресс-конференции, лекции, интервью... Но в какие бы далекие земли ни забрасывала меня судьба, в сердце моем всегда оставался своеобразный душевный оазис.
Верхневолжье, равного которому нет на земле. Как часто вдали вспоминал я три сосны на бело-золотом песке; гудки проходящих белых пароходов и тихие волжские закаты, когда река превращается в живой, переливающийся радугой перламутр; дальние грозы, сверкающие и громыхающие где-то за Волгой, когда небо тревожно клубится черно-серыми ливнями; раннее солнечное утро, ослепительно сверкающее в мириадах капель росы, осевшей в плетениях паутины в огородах, на заборах, на яблонях и сливах... И далекий собачий лай, доносящийся с противоположной стороны реки, — голос верного стража, оповещающего весь окрестный мир, что он на месте, на службе, при исполнении собачьего своего долга. И вечера, когда на невидимых под водой островках посреди Волги застывают до ночной темноты цапли, чудом сохранившиеся в этих заповедных местах, и доносится изредка тревожное курлыканье больших птиц, кружащихся над дальним лесом...
Я люблю этот заповедный край, где легко и привольно дышится; где сердце бьется спокойно и сильно, никогда не болит и не требует привычных лекарств; где я придумал десятки фильмов и спектаклей, писал книги и сценарии. Здесь, в Верхневолжье, есть своя прекрасная тайна — тайна покоя, тишины, созерцательности.
Будьте благословенны, земля и воды Верхневолжья, моя вторая малая родина!
Мне посчастливилось много побродить по земле — Европа, Америка, Азия... И никогда не было поездок неинтересных. Могли быть трудные, сложные, но всегда — удивительные, каждый раз открывающие глаза на дотоле неизвестное или невиданное.
Можно много читать о Парфеноне, пересмотреть массу материалов, в том числе и документальных фильмов. Но только прикоснувшись теплой ладонью к желто-серому камню великого Храма, вдохнув странный горький запах трав, доносящийся с окрестных холмов, смешивающийся с терпким запахом горячего камня, нагретого бешеными лучами греческого солнца — почуешь тайну Древней Эллады, тайну вечности, незримо пролетающей перед твоими глазами.
Эти минуты соприкосновения с непреходящим очень многое дают тебе. И минуты эти входят в душу навсегда, до последних дней твоих...
Дальние дороги, что пролегли по всему земному шару, дают ощущение пространства, бесконечных планетарных масштабов.
Увидеть все это самому воочию, подышать воздухом еще незнакомой тебе страны, пройти по древней нашей Земле-матери...
Увидеть и почувствовать — пусть малую толику — то, что тебе грезится, представляется, даже снится. Как у Пушкина — «далекий вожделенный берег»...
Глава последняя
Исчезла со стола рукопись книги, которую вы сейчас читаете. Ищу — не могу найти. Двенадцатилетняя дочь Ириша (по-домашнему — Ежик) достает ее из ящика своего письменного стола, приносит мне. Спрашиваю грозно: «Почему рукопись спрятала?»
Ежик отвечает не моргнув глазом: «Папочка, рукописи не горят, но могут потеряться».
Точка в конце книги.
Послесловие, очевидно, обязательно: без него как-то непривычно. По традиции в нем подводится итог написанному.
Но я решил несколько отойти от традиции, слегка нарушить ее. И подведу итог не я, а кто-нибудь из моих коллег: все-таки взгляд со стороны. Я ведь пристрастен к себе, впрочем, это не оригинально.
Много всякого довелось мне прочитать о себе за свою жизнь — и хорошего, и плохого. Но наиболее точно сказал про меня (как мне кажется) писатель Матвей Грин. Пусть ему и принадлежит заключительная страница.
А я заканчиваю второй и, очевидно, последний том моих воспоминаний. И прощаюсь с вами, мои читатели, уступая место другу моему, так хорошо понимающему меня.
Итак...
«За 26 лет (теперь уже 30! — И. Ш.) работы эстрадной кафедры ГИТИСа (а все эти годы кафедрой руководит И. Шароев) выпущено более трехсот режиссеров, артистов, а теперь и звукорежиссеров... Нет филармонии в стране, где бы не работали «птенцы гнезда» Шароева и его команды. Да и сегодняшняя гвардия эстрады: Пугачева, Вайкуле, Петросян, Новикова, Шифрин, Дитятев, Елизаров, Камбурова, Слободкин, Брунов, Николаев — это же все бывшие студенты кафедры и, часто, ее сегодняшние преподаватели...
Нет, я не хочу сказать, что Пугачева стала Пугачевой, а Петросян — Петросяном только благодаря ГИТИСу, его эстрадной кафедре — главное там было все-таки от Бога; но расширить диапазон, глубину взглядов на искусство (в том числе и эстрадное), на взаимопроникновение искусства и жизни — это многие приобрели в ГИТИСе. А главное — здесь был приобретен вкус к более глубокому познанию искусства как важнейшей части духовной жизни.
Шароев подарил мне книгу, выпущенную издательством «Советский композитор» под названием «Музыка, которую мы видим». (Это и есть первый том моих воспоминаний. — И. Ш.) Я знал, что эстрада, подготовка ее кадров, не были единственным делом жизни и творчества Шароева; знал, что в круг его профессиональных интересов входили и оперные спектакли, и музыкальные фильмы, и фольклорные постановки, но все приобретенное в других формах искусства всегда обретало жизнь в искусстве эстрады, и особенно в подготовке ее будущих режиссеров и артистов.
Есть еще одно важное умение «режиссера режиссеров» — умение придумать, написать, собрать, поставить массовый театрализованный эстрадный спектакль. Это большое счастье, что в униженном сегодня, сведенном до случайного набора номеров массовом представлении, где режиссер часто занят не творчеством, а набором артистов «потелевизионнее», есть все-таки эталон, есть пример, есть опыт режиссуры Шароева (как ранее был великий опыт Мейерхольда, Охлопкова). И все это живет не только в памяти, а в книгах мэтра, которые и помогут, и подскажут, и дадут возможность избежать многих профессиональных ошибок.
И здесь я считаю необходимым поговорить на одну деликатную тему (все равно этот разговор время от времени возникает в кругах деятелей искусства) — я имею в виду те «правительственные» концерты, которые в большом количестве ставил в «застойные» времена И. Г. Шароев. О чем разговор? Многие, и не без основания, считают, что те пышные, победно-фанфарные, ура-патриотические представления были некими идеологическими «приписками», не менее вредными, чем приписки в промышленности, сельском хозяйстве. Это так (автор этих строк, как литератор эстрады, тоже повинен во многих сценариях таких концертов!), но перебирая в памяти все те концерты, их подготовку, их «прохождение» по многочисленным (и весьма высоким) инстанциям, я могу, не кривя душой, констатировать, что главное, за что бился Шароев, как на поле брани, так и в труде, — это художественное выражение глубинного народного деяния.
Нет, я не ищу оправданий — вероятно, оснований для покаяния есть немало, — я лишь ищу объяснений.
И еще: важно, что освободившись от назойливой командно-административной опеки, «ценных» указаний, жестоких запретов и компетентных рекомендаций, Шароев нашел в себе силы работать в новых условиях, стараясь выдержать испытание свободой творчества (а многие ли это выдерживают?). И главное, он стремится научить работать в новых условиях своих питомцев, удержать их от бесплодного нигилизма, направить по пути честного, правдивого искусства.
Он полон замыслов, и самых разнообразных: поставить «Бориса Годунова», рахманиновскую «Франческу», моцартовского «Дон Жуана», превратить либретто и партитуру оперы-сатиры Т. Хренникова «Голый король» в спектакль, поставить «Поэторию» Р. Щедрина о великой Руси. И, конечно же, учить нашему трудному «легкому» жанру все новых режиссеров и актеров эстрады».
...Вот и все.
Еще одно дело, взявшее у меня немало душевных сил, подошло к финалу. Книга закончена.
И напоследок — сердечная благодарность собственной памяти. Она честно потрудилась и очень помогла мне вернуть многое из того, что прошло и исчезло...
Впрочем, память мне тут же подсказывает, что это я уже говорил в «затянувшемся предисловии».
И чтобы больше не повторяться, спешу поставить в конце большую точку, вот такую
[1] Балагуры с непременной бородой, веселившие и зазывавшие публику с верхней площадки балагана—рауса.
[2] «Печать и революция», 1921, кн. 2, с. 226.
[3] А. Гладков «Мейерхольд», т. 2, Москва, 1992 г., с. 391.
[4] Б. Брехт. Собр. соч. в 6-ти т., М., 1965, т. 5, с. 437.
[5] «Новый мир», 1991, № 6, с. 42.
[6] «Знамя», 1988, № 6.
